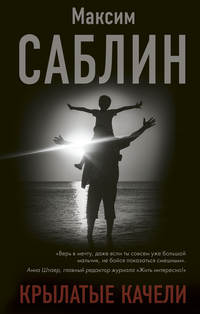
Крылатые качели
Ребров съел пересоленный суп, имевший вкус Баренцева моря, и ушел в палатку переодеться. Надев выцветшую до желтизны штормовку, он вернулся за Анной и застал у костра концовку спора, начавшегося несколько минут назад из-за невинного замечания Федора о пересоленном супе.
– Ради благих целей человек должен уметь принимать тяжелые решения, даже зная, что его не поймут, осудят и будут ненавидеть! – сказал Богомолов, только что ощутивший на себе непонимание, осуждение и ненависть. Сам он тоже измучился, но изображал блаженство. – Президент, принимая решения, исходит из государственного интереса, непонятного большинству ввиду ограниченности видения. И что? Отказаться от нужных решений?
– Никакой государственный интерес не оправдает пересоленного супа! – сказал с кислым видом Мягков, стряхивая в костер остатки ухи. – Все просто! Что неприятно тебе, не делай своему ближнему.
Все остальное – комментарии к этой мысли.
– А если ты ошибешься в своем государственном интересе, Петька, как ошибся с супом? – вмешался Миловидов, занятый тем, что разбавлял суп горячей водой. – Предашь друзей и ошибешься? Или не ошибешься, но победа будет Пиррова? Вся твоя политика – чушь, если погибают люди.
Петька продолжал спорить, а Федор осмотрелся. Пелагея с Беллой, поднеся ладошки к огню, грелись. Гриб, сморщив лицо, пил водку из железной фляжки. В те времена он уже много пил, но никто не обращал на это внимания. В темноте у дальней палатки Федор увидел Анну. Перешагнув несколько бревен, он подошел к ней.
Миловидова стояла к нему спиной, держа стопку железных тарелок, и говорила со своей мамой. В который раз он заметил, как дочь похожа на мать. Мама ее была тоже стройная, черноволосая, зеленоглазая, только чуть полноватая в лице. Они одинаково улыбались, похожим языком говорили и были очень милы. Мама ее, заметив Федора раньше, поспешно сказала, что сделает все сама, и с тревогой остановила на нем взгляд. Анна, с каким-то страхом в лице, резко обернулась. Почему-то все почувствовали, что он сделает предложение.
– А ты что думаешь, Федор? – вдруг донесся от костра голос Миловидова, возвращая его к разговору.
Федор с облегчением, что ему дана отсрочка, обернулся и увидел, что альпинист понимает все и улыбается. Ребров задумался, поглядев на костер. Он и всегда медленно думал, а от волнения совсем перестал соображать.
– Я как Ходжа Насреддин из того анекдота, – произнес он, когда все уже посчитали, что он промолчит, и принялись заниматься своими делами. – Помните, он соглашался с каждым, когда выслушивал его? Я думаю, надо всех любить. Остальное – комментарии.
Он взглянул, прищурившись, на компанию у костра. Вроде ответ вышел мудрым, но все промолчали. «Эх, сказал ни то ни се!» – подумал он и посмотрел на Анну. Она была так перепугана, что смотрела только на него, и скажи он ей прыгнуть с ним в обрыв – без сомнения прыгнула бы.
Федор, хорохорясь, обнял ее за талию и повел в палатку, перешагивая через белые веревки, но тут услышал кашель Петра и остановился поглядеть (на самом деле он боялся остаться с Анной наедине и был рад любой отсрочке). Петр, на забаву всем, поперхнулся своим супом. Мама Анны, успевшая вернуться к костру, любовно похлопала его по спине, но Петр отстранился от ее руки и откашлялся.
Послышался низкий, приятный голос Пелагеи:
– Вы говорите о вершинах и мечтах, – сказала она, закручивая светлые волосы в пучок и оглядывая сидящих у костра красивыми серыми глазами. – А кто позаботится о нас, хрупких, слабых женщинах? Кто даст нам деньги, квартиру, заботу и любовь? Кто будет лелеять нас и обожать? У нас тоже есть права!
– Пелагея, дорогая, как дочитаешь учебник суфражисток-феминисток до раздела своих обязанностей, приходи ко мне, обсудим, – ответил Богомолов и загоготал, довольный шуткой. – А так за что тебя любить? За красивые серые глаза? Или за чудо-маму?
Работать надо, и все будет!
– Ха-ха! Белла, вот возьмем тебя! – продолжала Пелагея, глядя с улыбкой на высокого тонкого Петра, скрючившегося на бревне напротив. Он своим пристальным взглядом, в зрелости ставшим убийственным, смотрел на нее и весело крутил усы. – Ты мечтала жить в Гадюкино, стирать рубашки в корыте и есть пересоленный суп? Я б сбежала от такого мужа!
– Изабелла, ты можешь сбежать прямо сейчас! – спокойно сказал Петр. – Может, хоть одиночество вправит тебе мозги!
– Шучу я Петя, шучу! – Пелагея грациозно потянулась и подошла к Богомолову. Ладонями сжав его уши, она поцеловала его в темя, но он сбросил ее руки. Петька уже тогда не позволял никому трогать его голову. – Белла, ты же не приняла мои слова серьезно? – ласково пропела она своей подруге. – Потерпи, я верю, что Богомолов станет великим… инквизитором!
Изабелла громко резко засмеялась, и все недоуменно посмотрели на нее.
23
Федор усмехнулся и увел Анну в палатку, в которой они вместе жили. Миловидова, по его указанию, исполнительно переоделась в темноте, мелькая белой спиной и острыми локтями, и через несколько минут посмотрела на него испуганными зелеными глазами. Она надела камуфляжные зеленые штаны, стянутые у щиколоток резинкой, и серую красивую водолазку.
Словно вспомнив что-то, она отцепила заколку и, быстро мотнув головой, распустила черные вьющиеся волосы. Федор, чувствуя приближение момента, храбрился и самоуверенно улыбался, но сердце его колотилось, как у мышки.
По белеющей в темноте тропе они шли довольно долго, и Федор мечтал, чтобы они шли так бесконечно. Тропа вывела их на высокий обрыв, за которым открылось небольшое озеро. Федор увидел заросший ползучим пыреем спуск и направился к нему. Держась за руки, они слезли с обрыва на пустынный пляж и, утопая в мягком песочке, подошли к самой воде, поражаясь красоте мест. Река немного волновалась, натягиваясь небольшими, почти плоскими бугорками, блестящими поверху. Изредка слышались всплески. Чернел другой берег, заросший редкими ивами. Федор и Анна посмотрели вверх, и у обоих возникло странное ощущение: они, молодые мужчина и женщина, как будто сидели на качелях, подвешенных к двум далеким ярким звездам, и раскачивались в немыслимо огромной полусфере черного сияющего космоса.
У Федора закружилась голова, и он повернулся к Анне.
– Твой отец вроде был резок с Медузовым, но мне понравился, – сказал Федор.
Он нашел крупный камень и забросил далеко в реку. Камень громко бултыхнулся в воду и утонул.
– В горах ложь равносильна смерти, отец всегда говорит прямо, – ответила Анна, очевидно передавая слова отца, ставшие теперь ее суждением. – Знаешь, многие относятся к делу жизни моего отца презрительно…
Анна замолчала, разглядывая лицо Федора. Она как будто раздумывала, стоит ли продолжать, словно боялась, что Федор тоже назовет дело ее отца бессмысленным или неловким выражением лица уничтожит то, что ей дорого.
– Отец был на вершине Эвереста, первый пролез К-2 по Западной стене, пытался покорить Канченджангу! – сказала она нерешительно, но, увидев округлившиеся глаза Федора, продолжала увереннее. – Ты знаешь, они не говорят слово «покорил», в нем много гордыни. «Гора как стояла миллионы лет, так и будет стоять, – считают альпинисты. – Можно покорить только себя!» – Она услышала еще всплеск от брошенного в воду камня и некоторое время крутила головой. – А еще он первым взошел на Лхоцзе Среднюю! – продолжила она, посмотрев на Федора. – Первым среди всех людей на планете! – сказала она, явно гордясь отцом. – А говорят, все открыто. Не все открыто! Во Вселенной гораздо больше черных дыр, чем может вообразить ослепленный гордыней человек.
Федор посмотрел вверх, на звезды, представляя, как Семен Анатольевич с ледорубом поднимается на маленький пятачок горной вершины. Под ним, далеко внизу, – облака, а над ним – огненный шар солнца. Федор не знал ни Лхоцзе, тем более Среднюю, не знал не только Западной, но и Восточной стены К-2, он вообще не знал, что такое К-2. Но прочувственный голос Анны вдохновил его.
– А я не уверен, что выбрал свой путь, – сказал он, повернувшись к Анне и опасаясь, что она неверно поймет и уничтожит дорогое ему. Он почему-то стеснялся говорить о самом сокровенном, как о неуместном. Но Миловидова спокойно смотрела в его глаза и все понимала правильно. – В юности я мечтал стать физиком, открыть сверхсветовую скорость и полететь в дальний космос! – продолжил он. – Может, ты не знаешь, мой дед со стороны мамы, Алексей Душевин, получил Нобелевскую премию по физике и всю жизнь пытался решить тот же вопрос, до самой смерти. Пойми, мы погибнем, если не заселим другие планеты. – Он задумчиво посмотрел в глаза Анны. – В школе я считался одаренным, побеждал в олимпиадах по физике, но я испугался. Вместо того чтобы решить главный вопрос, я выбрал престижную профессию, нелегкую, интересную, но все же. Получается, что я хочу? Стабильную работу и денег побольше? Разве зарабатывание денег – единственное назначение дара под названием «жизнь»?
– Я думаю, лучше сразу идти навстречу своему самому большому страху, потому что это и есть твое предназначение, твоя мечта! – призналась Анна, глядя на него. – С годами будет только хуже. Либо ты имеешь смелость выбрать жизнь, какую ты хочешь, либо ты живешь жизнью, выбранной другими. Я мечтала стать балериной в детстве, ходила в хореографическую школу, а пошла на юриста и никогда не стану Анной Павловой. Я понимаю, о чем ты говоришь.
У Федора за спиной как будто выросли крылья.
– Давай помечтаем, – продолжила она, взяв его за обе руки и приблизив к себе. – Представь, мы с тобой будем путешествовать по миру, родим детей. Я буду крутой танцовщицей, ты – лысым физиком. А потом мы с тобой построим ракету, сядем в нее вместе с детьми и полетим к маленькой далекой звездочке! Мы с тобой многое можем.
Она доброжелательно улыбнулась, и взгляд ее наполнился такой любовью, что Федор, если бы кто попросил его, отдал бы жизнь только за то, чтобы Анна снова так посмотрела на него. Каждую секунду она открывала ему какую-то новую часть себя, приоткрывала свою тайну. Он вдруг ясно понял: перед ними сокровище.
«Мы с тобой многое можем!»
Федор попробовал на вкус эти слова и подумал: что-то важное упускалось им раньше. Раньше он всегда надеялся только на себя, он воспринимал себя самодостаточной единицей мира. Но тут он понял, что он не был единицей, а был лишь половинкой, лишь мужчиной, которому обязательно нужна женщина. Он понял, что если к его половинке добавить другую половинку, Анну Миловидову, то они станут единым целым, единицей мира, частицей Бога. У него захватило дух от открывшегося космоса, созданного их любовью.
– Я так люблю тебя, Анна! – сказал он.
– И я тебя люблю, Федор! – сказала она, глядя на него лучистыми глазами. – Знаешь, что папа говорит? Мужчина должен рисковать, покоряя Эверест, но не имеет права рисковать, выбирая женщину. – Она звонко засмеялась.
Одновременно они оба поняли, что она невольно намекнула ему о том страшном деле, которое называется «сделать предложение руки и сердца», и испугались. «Черт, когда я воображал себе эту сцену, все казалось легко, – подумал Федор. – Я же должен был все сделать, как Супермен!»
Он был так близко к Анне, что чувствовал тепло ее тела. Они держали друг друга за руки, стоило легонько потянуть, и Анна Миловидова прижалась бы к нему на всю жизнь. И фон был подходящий: река, звездное небо, ночь, тишина. Из-за черных деревьев долетал шум волн большой реки.
«Пора!» – сказал он себе, и сердце застучало быстрее. Как говорил Злой в фильме: «Если хочешь стрелять – стреляй, а не болтай». Но Федор много думал, много болтал и вел внутренние монологи. Он боялся. Анна тем временем смотрела на него, и в ее зеленых ясных глазах он видел свою голову, окруженную сферой звезд.
С любовью было все ясно. Оба они жили в состоянии влюбленности, радости друг от друга и каждую свободную минуту проводили вместе. Но вот что такое брак, Федор не понимал, брак ему казался чем-то сложным. «Ну какие из нас муж и жена? – думал он. – Мы так молоды и глупы, а это дело на всю жизнь! Надо составить план-схему, взвесить все pro и contra и сделать выбор раз и на всегда». Но Федор чувствовал, что с ней нужна была определенность, она была так воспитана. Он должен был закончить это дельце сейчас.
«Если не сейчас, то никогда, – вдруг подумал он. – Сейчас именно то время, о котором потом говорят, что надо все делать вовремя. Ведь судьба не дает второго шанса».
Федор смотрел в ясные глаза Анны, на ее приоткрытые губы, разглядывал ее белую кожу в темноте. Он мог протянуть руку, мог прижать к себе свое счастье, но застыл в опасной нерешительности.
«Все, сейчас я скажу ей: Анна, выходи за меня замуж», – решился он, а вместо этого потянул ее за руки и поднялся к тропе. Там она дернула его к себе, широко расширив глаза, но он поспешил, сам не понимая зачем, сказать ей: «Нет-нет, пойдем, уже поздно».
Анна с грустью и разочарованием посмотрела на него, быстро развернулась и ушла в лес. Он догнал и попытался обнять ее, но она отстранилась. «Завтра скажу!» – подумал Федор, и ему полегчало.
«Почему, ну почему я не сказал тогда? – размышлял Ребров много позже, когда в его жизни началась черная полоса. – Судьба буквально всовывала мне в объятия настоящее сокровище, а я испугался! Я мог просто догнать ее, разбудить ночью, мог сказать утром, мог… Похоже судьба обиделась, что я не взял туза, и решила подкинуть мне пиковую даму! Почему я всю жизнь боялся сделать правильный выбор?..»
24
Вечер на этом не кончился. С Женей Грибоедовым постоянно случались беды. Стоило с ним пойти в магазин, как Гриба, пока Федор стоял в очереди, избивали какие-то дети с нунчаками. Стоило взять его в театр, как в туалете у него отнимали свитер. Женя Грибоедов был из интеллигентной семьи, но, как часто бывает с такими юношами, не был приспособлен к жизни и злу, царящему в мире. Пока он мямлил про Маркса, ему давали в нос и отбирали кошелек.
Причиной всех бед Грибоедова были его убеждения. Он носил волосы до плеч, облегающие джинсы, футболку с кровавыми Cannibal Corpse, а на ухе его болтался крестик, который хотелось оторвать даже толерантному Федору. Женя Грибоедов называл себя металлистом. В центральных районах Москвы на него уже не обращали внимания, но были места на окраинах, где таких, как он, обычно избивали.
Когда Федор вышел на поляну, все уже спали в палатках, только Петр, вытянув ноги, сидел у костра и пилкой чистил ногти. На колышках сушились кроссовки, босоножки и даже красные кеды Пелагеи. На веревке между деревьями болталась на ветру тельняшка Миловидова. За бревном, на котором устроился Петька, желтая тропинка уходила к основной дороге, где пьяные туристы распевали песни, и на этой тропинке стоял Женя Грибоедов в своем наряде металлиста и двое незнакомых мужчин.
Один – маленький, сильно плечистый мужчина с волевым лицом, одетый в грязную белую майку и спортивные зауженные треники моды девяностых. Второй – толстый огромный мужчина в красной рубахе, коротких брюках и лакированных черных туфлях на босу ногу. Голые мосластые щиколотки его светились в темноте. Плечистый и Толстый отобрали у Грибоедова радио. Федор знал, что Гриб не отступит, радио принадлежало его покойному отцу.
– Пойдем! – сказал Федор Петьке.
Богомолов, обернувшись на Гриба, отрицательно покачал головой и продолжил чистить ногти. Федор с тревогой посмотрел на двоих здоровяков. Вообще, главным по разборкам был Мягков, но сейчас он болтал в палатке с Кирой. Федору и самому хотелось полежать в палатке, но надо было идти. Федор, вздыхая и морщась, подошел к Жене, неприятности которого имели свойство переходить на тех, кто пытался ему помочь.
Сам Федор, хотя физически был невероятно силен, обычно погашал редкие дерзости в отношении себя мягкими речами, но если агрессоры настаивали, то никогда не дрался и сам отдавал все свои деньги. Некоторые, еще в школе, поначалу презирали его, думая, что он убогий, но когда он однажды сломал обидчику шею только за то, что тот поцарапал логарифмическую линейку покойного дедушки, то презирать перестали. Правда, ему самому чуть не сломал шею отец, когда узнал, что Федор покалечил одноклассника.
После неуклюжего разговора Федор довольно быстро обнаружил себя лежащим на спине в кустах и блестящими глазами смотрящим на звезды. Неизвестно, чем бы все кончилось, но послышался треск веток. К Федору и Жене уверенно подошел широкоплечий высокий парень в раздутых клетчатых штанах и кепке-восьмиклинке. То был Мягков, услышавший из палатки шум потасовки.
Илья Мягков на самом деле был страшный человек. Поэтому и засмеялись студенты, когда старушенция с кафедры конституционного права погладила его по голове и назвала хорошим мальчиком. Он вовсе не был хорошим мальчиком. В юности он числился в люберецкой группировке, грабил квартиры и участвовал в драках с металлистами. Как и все люберы, он качался, занимался каратэ и мог указательным пальцем проломить доску. У него в комнате даже висел плакат Брюса Ли.
Мягков был преступником и шел прямой дорогой в тюрьму, если бы не произошло одно событие. Ближе к окончанию школы его отец, трижды судимый за грабеж бандит, местный авторитет, человек суровый и смертельно опасный, вызвал его к себе в комнату (то был редкий месяц, когда отец находился на свободе) и объяснил, что сын должен найти другое занятие в жизни. Мягков, будучи хорошим сыном, поморщился, но послушал отца и после окончания школы поступил в Московский университет, где отрастил пушкинские бакенбарды, зауважал закон и подружился с идеологическим врагом Женькой Грибоедовым. Но бандитские навыки не забыл.
Сила преступников в том, что с другими преступниками они умеют договариваться без драки и только иногда убивают друг друга. Плечистого поначалу смущали бакенбарды Мягкова, но по разговору и вежливым манерам он быстро признал в нем своего, пусть и странноватого («Ох уж эти москвичи»). Они пожали руки, стукнулись грудью, и радио было возвращено счастливому Грибу.
Неожиданно Толстый, до того молчавший, приблизил мясистое лицо к Мягкову и потребовал денег за аренду места. Мягков, не понимая, в чем причина самоуверенности и хамства толстяка, недоуменно уставился на него. Толстяку взгляд не понравился. Коротко замахнувшись, он толкнул Илью в грудь. Мягков, быстро восстановив равновесие, одним ударом в подбородок послал обидчика отдыхать на траву. А потом, переглянувшись с Плечистым, дал знак Федору уходить. Но тут Толстый, держась за лицо, поднялся.
– Милиция поселка Постромки! – закричал он и дрожащей рукой развернул удостоверение в коричневой корочке. В волнении он заговорил с «оканьем»: «п-о-селка П-о-стр-о-мки». – Только что произошло преступление! – кричал он и от крика становился еще увереннее. – Сопротивление сотруднику милиции! Всех прошу пройти в отделение! Удавлю!
Задушу! Вы у меня попляшете, м-о-ск-о-ли!
Если Мягков по опыту догадался сразу, что милиционер будет выманивать денег, и размышлял, сколько запросит, то Федор с ужасом подумал, что всей его карьере конец, примерно представляя, на сколько светит «сопротивление сотруднику милиции».
И тут послышался громкий, уверенный голос.
Толстый с Плечистым вздрогнули.
Мягков с Ребровым удивленно воззрились на Грибоедова.
– Пракуратура Масквы! – пробасил Гриб и театрально выбросил откуда-то из кармана, словно револьвер, раскрытое удостоверение в красной корочке.
Оба мужчины недоверчиво всмотрелись в фотографию Жени в прокурорской форме и как будто уменьшились ростом. Женя, выпятив нижнюю губу, ногой в белом кеде уверенно встал на туфлю пухломордого и пытливо посмотрел в его маленькие глазки. Толстяк не отнимал ноги, пока сам Грибоедов не убрал свою, оставив пыльный след на лакированной туфле.
– Проедем в прокуратуру? – спросил Гриб официальным тоном.
Милиционер как-то неловко, не сразу попав в карман, сунул корочку в брюки, извинился и поклонился. Плечистый, стараясь не встречаться взглядом с Мягковым, подхватил друга, и они быстро ушли, сверкая в темноте белыми щиколотками.
– Панаехали тут! – крикнул им вослед Женя Грибоедов.
Совершенно счастливый, Женя сел на бревно и снова включил свое радио. Через минуту из него уже полились шаманские звуки язычкового варгана, и Бутусов запел «Тутанхамона»: «Если ты пьешь с ворами – опасайся за свой кошелек…»
– А как Гриб достал корочку, а? – сказал Федор. – Станиславский!
– Эх, ушло время честных драк! – сказал Мягков, махнув рукой Кире, с тревожным лицом наблюдавшей из палатки. – Корочки всякие, тьфу. – Он развернулся и увидел Петьку. – А ты чего не подошел?
– Что ж мне, «прокуратура Гадюкино» надо было сказать?
Покачав головой, Мягков ушел в палатку.
25
С утра все пошло наперекосяк. Вечером договорились сняться с лагеря в шесть утра. Никто слова не сказал против. Однако в двенадцать они были на том же пятачке в лесу, одурманенные запахами полыни и жужжанием шмелей. Солнце выжигало их головы ультрафиолетом. Мошкара тыркалась в зрачки, кузнечики подпрыгивали на три метра, словно пули в коробке. Друзья метались по лагерю и кричали друг на друга. Тонкий визг Недотроговой разлетался по всей Волге. Только альпинист Миловидов, изредка поглядывая то на одного, то на другого, спокойно сидел на рюкзаке, поставив одну ногу на бревно, и деловито стругал палочку.
Компания разделилась на две враждующие группировки. Родители Анны, Илья с Кирой, Федор с Анной и Недотрогова встали в пять, собрались, перекусили, убрали поляну от мусора и давно сидели на пухлых рюкзаках. Петька взял на себя роль «центра зла», Гриб с Пелагеей – равнодушного большинства, а Дэв Медузов – злобствующего эксперта.
Петька Богомолов встал в десять. Сев на складной стульчик возле палатки, он неторопливо и скрупулезно обертывал вещи двойными мусорными мешками, раскладывал в определенном порядке свои шампуни, гели, кремы, аптечки, косметички, средства от комаров, средства для мытья посуды, сковороды, тарелки, ложки, прищепки для белья, веревки, зубочистки, мешочки с личными печеньками, солью, сахаром, перцем. Ему кричали, тыкали ему на часы, даже били. Он ни на кого не обращал внимания. Как позже выяснилось, он открыл один глаз в пять утра, решил, что кругосветка – глупая затея, и теперь никуда не торопился.
Невыспавшийся Грибоедов, готовый идти куда все, пару раз высовывал светлую голову из палатки, напоминал червяка в вязаном спальнике. Глядя на Петьку, он залезал обратно, а в одиннадцать вылез окончательно, с перекинутой через плечо маленькой, почти женской, истертой сумкой. Он жил моментом и ни к чему не готовился, вынуждая других думать за него. Федор с Ильей подошли собирать его палатку.
Через москитную сетку Федор увидел силуэт Пелагеи. Светловолосая широкоскулая нимфа с огромными серыми глазами изящно сидела на коричневом спальнике в белых трусах и растянутой майке в горошек. Она потянулась и начала расчесываться, наклонив голову набок. Пелагея была очень красива. Неожиданно она посмотрела на Федора и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ.
В час дня на солнце, словно упырь, вылез из палатки Дэв Медузов. Поняв, что «все плохо», он довольно улыбнулся и потянулся. Намазав себя белым защитным кремом, он начал расхаживать по лагерю и разглагольствовать, местами тонко, местами умно, местами просто блестяще, о «состоянии текущего состояния и будущем состоянии состояния».
Федор в бессилии привалился спиной на рюкзак и закрыл глаза, как вдруг Гриб подстроил радио и послышалась та музыка.
Гитарный дисторшн Джексона.
Федор вспомнил клип, где юный Маколей Калкин улетает в стену от громкости, а Майкл Джексон танцует с Наоми Кэмпбелл. «Black or white». Зажигательная песня детства. Про то, что не важно, белый ты или черный. Петька ты или Редька. Про любовь.
«Черт, вот это была жизнь! – размышлял Федор с улыбкой позже. – Да, мы поссорились с Петькой, мы все утро ненавидели друг друга, но это были настоящие эмоции, настоящий драйв! Девушки были красотками, у парней горели глаза. Мне было двадцать один, а Пелагее всего девятнадцать. Мы ничего не понимали и не думали тогда, но жили полной жизнью!»
Потом они долго плелись до лодочной базы по желтой пыльной дороге, почти как та компания, что шла в Изумрудный город искать сердце, смелость и мозги. Богомолов не имел сердца, Ребров – смелости, а Мягков, похоже, был без мозгов, но это неточно.
Светловолосая красавица Пелагея надела короткое белое платье в морском стиле, с голубыми полосками, и подол его время от времени подлетал от ветра до живота. Пелагея звонко смеялась и рукой прижимала подол к бедрам. Скоро она начала капризничать, но разве красивые девушки не имеют права капризничать? Виновным в ее мытарствах был назначен Грибоедов, Пелагея бранила беднягу, но Женя тайком выпивал, имел вид хитрого лиса и лез ко всем целоваться.
Анна, любимая Анна, вспотев, терпеливо несла маленький аккуратный рюкзак и смотрела лучистыми глазами на Федора.

