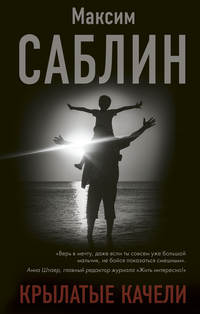
Крылатые качели
– Давай придем в правовую систему и разберемся, – перебил ее Федор и мягко положил руку ей на плечо, чувствуя под блузкой тепло ее тела. – Я буду известным адвокатом, а ты…
Анна остановила на нем взгляд и покраснела.
Когда они вернулись в зал суда, Мягков у окна спорил с Богомоловым.
17
– …я бы посадил вместо подростка его мать! – говорил Петр, с яростью глядя на Мягкова так, словно был готов перебить или задушить его, если он скажет хоть слово против. Солнечный луч лежал на лице Богомолова, делая его глаза прозрачными, как у рыбы. – Ну скажи, в чем вина мальчика? Ясное дело, эта странная, глупая мать воспитала его неправильно. – Богомолов паразитировал словами «ясное дело».
Федор начал слушать их, рассеянно рассматривая внизу здания женщину с ротвейлером. Мягков снял ногу с трубы под подоконником и выпрямился.
– Разве мать выбила глаз охраннику? – сказал он, тонко улыбаясь Федору. – Каждый отвечает за себя, пусть он даже сын Эскобара и племянник Аль Капоне. Мальчишке просто не досталось мужского воспитания, но это не повод совершать идиотские поступки.
Услышав последнее, Федор усмехнулся. Мягков как раз намекал на ту деталь, что заставила общественность обсуждать это дело. Когда подсудимому было полгода, его мать убила своего мужа, и это невольно наводило на размышления, каким бы вырос подросток, будь рядом его отец. Стал бы он жестоким преступником?
По сведениям знающих лиц, мужчина был достойным человеком, и все же слышались разные «если», «но» и «видите ли, в чем дело». У некоторых женщин вовсе было мнение, что раз муж позволил его убить, значит, сам виноват. Точно никто уже ответить не мог, но факт оставался фактом: без отца парень вырос преступником.
– Я одного не понимаю, – продолжал Мягков. – Как можно покалечить за взгляд?
– Не знаю, кто из вас прав, – сказал Федор, зажмурившись от ослепившего его солнечного зайчика с часов Петьки. – Но, похоже, я знаю, за что она убила своего мужа. Ей не понравился его взгляд!
– Или взгляды! – рассмеялся Мягков.
Петр разглаживал редкие короткие усики, неподвижным взглядом уставившись в окно. Его просили сбрить усы, не имевшие в ту пору популярности, но Петькино решение изменить было невозможно.
– Странное было правосудие! – сказал Богомолов. – Женщина убила мужа, и что? Судьи посовещались и решили: мать – это мать, какой бы она ни была, и дали условный срок. И что мы видим? Муж мертв. Сторож без глаза. Сын преступник. А она на свободе, все такая же дремучая. И считает себя невиновной.
Из зала заседаний раздался вопль той женщины.
– Друзья, мама – это мама, святой человек, давайте не будем судить ее строго, – сказал Федор проникновенно. – Я думаю…
Дверь в зал открылась, и Федору не удалось закончить. Послышались громкие голоса, шум сдвигаемых скамей, начали выходить взволнованные люди.
К Федору и его приятелям подошла побледневшая Анна и сказала, что парню дали три года реального срока.
– Представляю, каково сейчас матери! – сказала Анна, часто моргая. – Как жаль ее!
Конвой, защелкнув за спиной подростка наручники, вывел его из зала. Мать шла рядом с сыном и гладила его по стриженой голове. Друзья спустились на воздух, решив всей компанией пойти к Жене Грибоедову.
18
Жарило солнце. Благоухала только освободившаяся от снега земля. По Кржижановского, звеня, проносились трамвайчики. Старушка, пытаясь оторвать ветку от вербы рядом с тротуаром, испачкала руку клейкими листочками.
Ждали Пелагею с Кирой. У всех было молодецкое удалое настроение. Было то время, когда они встречались, расходились, ссорились, мирились, когда Илья, только собравшись учить уголовный процесс, по одному звонку Федора выбегал гулять, когда заснувшему на тарелке Петьке сбривали усы и зеленым маркером рисовали тараканьи усища, когда Женька Грибоедов играл на гитаре и пел в переходе, когда в один день происходила тысяча событий, сидеть дома было скучно и можно было ходить в гости без гостинцев и приглашения. Это было то время, когда ты не думаешь о жизни, а просто живешь. Несчастен тот, кто не гулял в молодости. Многие из тех, кто когда-то танцевал рок-н-ролл, уже умерли, остальные стали страшными занудами.
Федор балансировал на узком бордюрчике, Мягков, отгоняя муху, читал Хемингуэя, держа книгу в вытянутой руке, Петька в раздражении, что надобно ждать, грыз ноготь указательного пальца и ходил взад-вперед. Анна, сжимая в руках желтую сумочку, улыбалась.
Заправляя на ходу светлые волосы за уши, вышла Пелагея Медузова. Девушка посмотрела красивыми глазами сквозь Федора, надела черные очки-бабочки и встала рядом с Мягковым. Он на миг отвлекся от книги и посмотрел на Пелагею. Оба высокие и стройные, они были красивой парой.
Пелагея принадлежала к кругу самых красивых девушек университета, которые знали о своей неотразимости, знали себе цену и общались только с самыми красивыми мужчинами. Поговаривали, что у высокой красавицы была прибабахнутая мать, но Федор, любуясь ее стройными бедрами и красивыми глазами, вообще не понимал, о чем речь. Была в Пелагее харизма, привлекавшая Федора, как мотылька привлекает огонь. Медузова, как позже выяснилось, даже не была студенткой Московского университета, а училась праву в Академии суфражисток[3] имени Эбигейл Адамс[4], одной из тех коммерческих контор, чьи объявления развешивали в поездах метро. В университет она приходила к своей двоюродной сестре, рыжеволосой красавице Кире Кизулиной. Впрочем, никому дела не было, кто где учился.
Подростка, торчащего в зарешеченном окошке уазика, увезли. Толпа репортеров, выкидывая в урны бумажные кофейные стаканы и сворачивая телескопические микрофоны, расходилась. С шумом проехал мальчишка на скейтборде. Федор, с тревогой подумав, что может потерять на гулянке с Грибоедовым паспорт, засунул неудобный документ в карман куртки и запер молнией.
Светловолосая красавица в черных очках-бабочках была недовольна. Она долго наблюдала за читающим Мягковым, скрестив руки, но Илья был так увлечен, что не замечал своей девушки. Она сняла очки и попросила смотреть на нее. Илья опустил книгу и взглянул на нее.
– Почему ты так смотришь? – спросила красавица. – Мне не нравится твой взгляд.
Федор, улыбнувшись, посмотрел на Миловидову. Анна тихо стояла рядом, развернув по балетному ступни и рассеянно наблюдала за Федором. Когда он повернулся к ней, Анна поцеловала его и ушла на танцы.
19
Некоторое время они молчали. Наконец в дверях появилась высокая рыжеволосая Кира в голубых обтягивающих джинсах и белой блузке, как обычно с прижатыми к груди учебниками и куда-то спешащая. Прикрываясь тонкой ладошкой от солнца, она обвела взглядом толпу перед зданием суда и нашла у бордюра знакомую компанию.
Друзья дошли до квартала обоев и плиток возле метро «Профсоюзная» и пешком направились в сторону университета. Петька болтал с Кирой, Илья с Пелагеей, а Федор рассматривал дома вокруг. «А неплохой райончик!» – подумал он, не подозревая, что будет жить здесь в будущем с Пелагеей. Сам он еще жил с родителями у Нескучного сада.
Через двадцать минут компания подошла к Дому преподавателей МГУ, огромному зданию сталинской архитектуры с колоннами на верхнем этаже. Бабушка Женьки Грибоедова была профессором университета и в наследство оставила ему квартиру в знаменитом месте.
Федор набрал в домофоне квартиру Гриба, и тут к ним подошла весьма интересная троица: черноволосый мужчина в форме и две немолодые маленькие женщины. Мужчина был пропахший куревом типчик с черными короткими усами и внимательным взглядом. Он недобро рассматривал их через затемненные очки и дымил самой настоящей сигарой. В женщинах легко можно было определить сестер. Пелагея познакомила всех.
Мужчина был генерал Арес Велиалиди, высокий чин в министерстве внутренних дел. Одна из женщин, в старомодном зеленом пальто и колокольчиковой шляпке с розочкой, была мать Пелагеи – Эрида Марковна Недоумова. Вторая была мать Киры – Немезида Кизулина, глава думского комитета по семейной политике, детству и материнству. Немезида Марковна, как знал Федор, совсем себя не жалела и даже немножко губила ради власти, сменив аж четыре партии, в зависимости от того, какая проходила в Думу. Троица шла в гости к ней на Фотиева.
В домофоне послышались шорохи, длинный писк и сонный голос.
– Открыл? – спросил Гриб.
– Да! – Петька придержал дверь.
– Какие волосюшки у нашего бездельничка! – сказала Эрида Марковна, дергая за бакенбарды скривившегося Мягкова. – Мой будущий зятек! – обратилась она к своим друзьям. Насмешливо улыбаясь и хихикая, женщина рассказала всем, как давеча слушала по телевизору «безголосеньких певичек», как спускалась в «душненькое метрецо», как ездила за «дешевенькими штучками» в «Айкею».
– А кассир матом орет на меня! А я ему, такая, отвечаю…
Мама Пелагеи производила впечатление женщины, которая, начав ворчать, не могла остановиться. Друзья с улыбками переглядывались, из чувства такта не желая шутить над странным диалектом Недоумовой. Петр в голос вздыхал. Эрида Марковна, ничего не замечая, перешла на тему «как все нынче плохо, а вот раньше и трава была зеленее, и уксус слаще». Велиалиди все это время внимательно рассматривал Федора и тихо шептался с мамой Киры. В каждую паузу Недоумовой друзья хором прощались, но она, не понимая намеков, продолжала дальше, как заевший патефон, пока не вывела Федора на спор.
– Московский университет! – покачав головой сказала Недоумова. – Зачем?
– Зачем учиться в лучшем вузе страны? – Федор оперся рукой на плечо Мягкова.
Недоумова сразу стала агрессивной.
– Ты забыл, где живешь, безусый мальчишка! – запричитала она высоким голосом. – Выброси свой диплом, ты ничего не добьешься сам. Поверь мне, старой больной женщине – успех в России там, где блат, взятки и постель!
После этих слов Недоумовой Федор понял, что эту окончательно выжившую из ума женщину просто нельзя воспринимать всерьез. «Бедная Пелагея, кто б тебе объяснил правду про Академию суфражисток имени Эбигейл Адамс!» – подумал он, переглянувшись с красавицей.
– Зачем мне верить старой больной женщине? – сказал Федор. – Я поступил без блата. Я иду на красный диплом без взяток. И я твердо верю, что идиоты и бездельники, даже со всем набором ваших козырей, никому не нужны. Лучшие компании возьмут меня, потому что я помогу им стать еще лучше. Страна уже другая, Эрида Марковна.
Недоумова все время саркастически хихикала и, сохраняя неприятное недоброжелательное выражение лица, переглядывалась с Немезидой Кизулиной и Аресом Велиалиди. Федору стало понятно, что они ставят под сомнение каждое его слово. «Вот добьюсь всего, так они не поверят, что сам, – подумал он. – Странные люди».
– А я знаю вашего отца, – сказал Велиалиди со странной ухмылкой. – Умный человек!
Федор покраснел, чувствуя, что тот говорит в негативном смысле, но не нашелся, как достойно ответить.
– Матвей Ребров, депутат Госдумы? – спросила с сияющим лицом Эрида Марковна. – Так это его отец? А, тогда все понятно!
Федор хотел возразить, но, встретив смеющийся взгляд Мягкова, промолчал. Они попрощались и разошлись в разные стороны.
20
Прошло три месяца. Федор Ребров в черном костюме и Анна Миловидова в белом платье, оба со светящимися глазами, сидели в квадратном актовом зале университета с колоннами и яркими люстрами. По традиции, лучшие студенты получали дипломы первыми. Анна уже получила свой, а Федор волновался и краснел, боясь момента славы. Как обычно бывает, фамилию назвали внезапно, и он скованно взбежал на сцену. Отец, тоже взволнованный, с повлажневшими глазами, подошел к сцене фотографировать.
Садовничий, поблескивая линзами очков, улыбнулся Федору, крепко пожал руку и вручил диплом. «Я сделал это!» – ошалело подумал Федор, оглянувшись на огромный зал аплодирующих ему людей с сияющими, светлыми, улыбающимися лицами.
Федор вспомнил, как маленькими шажочками, с любопытством юности и стремлением быть первым, он пять лет вгрызался в науку, не всегда умело, не всегда дисциплинированно, и вот сейчас стоял здесь, на последнем рубеже, отделявшем юность от взрослой жизни. «Это стоило того!» – подумал он и поднял вверх красный диплом, как поднимал золотые медали в велоспорте.
Выступал декан юридического факультета.
– Поздравляю, теперь вы представители одной из древнейших в мире профессий! – сказал плотно сбитый седой мужчина, улыбнувшись. – Впрочем, оставим шутки, юрист не только древняя, но и весьма нужная обществу профессия, особенно сейчас! – Он посерьезнел. – Друзья, вы лучше других знаете о праве, о государстве, о демократии. Вы лучше других знаете, что такое закон, как его толковать и исполнять. Я не могу, к сожалению, обещать вам, что все институты права и государства, что вы изучили в теории, будут правильно работать за пределами университета. Культура неуважения к основным правам человека все еще тянет наше общество назад, к господству одной партии и одного мнения, к тоталитаризму! Да что там, мы все еще не умеем цивилизованно спорить и грезим о революциях, вместо того чтоб договариваться.
Декан говорил с чувством, вызывая в Федоре патриотический озноб и волнение.
– Вы будете судьями, прокурорами, адвокатами, следователями, юрисконсультами, вы будете известными людьми, возможно первыми лицами государства, – продолжал он. – Не предавайте идеалы нашей светлой профессии! Не предавайте людей, которые будут к вам обращаться! Не предавайте ценности цивилизованного общества! Не подчиняйтесь тому дурному, что вы увидите, но и не сидите сложа руки. Своим примером меняйте практику к лучшему. Создавайте гражданское общество. Создавайте правовое государство. Смело идите вперед. Действуйте. Пришло ваше время, коллеги. Будущее – за вами. Я твердо верю, что вы сделаете нашу прекрасную страну лучше. И я твердо верю, что своих детей вы научите правильным ценностям.
Федора так вдохновили эти слова, что он, и так расчувствовавшись на вручении, пообещал мысленно не подвести и не удержал слезы, скопившиеся на глазах.
Получив дипломы, друзья начали осуществлять задуманное. Мягков твердо решил стать писателем и, обмотав шею шарфом, написал первые абзацы романа о безумце-моряке и попугаях-неразлучниках. Красивая Пелагея уехала на Канары. Грибоедов, по протекции знакомых бабушки, устроился в прокуратуру Москвы. Рыжая Кира начала стажировку в крутой американской фирме из рейтинга Chambers Global[5]. Федор с Анной разослали резюме. А Богомолов продолжал трудиться в гадюкинской прокуратуре и выслушивать нотации своей жены Недотроговой.
21
В конце июня две тысячи пятого года, по инерции студенческой жизни, Федор предложил всем ехать на фестиваль бардовской песни и проплыть на байдарках Жигулевскую кругосветку. Огромная Волга в том месте делала круг, почти соединяясь у села с бурлацким названием Переволоки. Интернет обещал фантастические виды и веселые приключения.
Федор же, никому не сказав, еще имел намерение сделать Анне Миловидовой предложение.
Идея понравилась, и компания друзей, переночевав в Самаре у родителей Анны, приехала на Мастрюковские озера. Весь день они гуляли по лагерю, жужжащему, словно огромный муравейник, слушали бардов, ели приготовленный на углях шашлык, загорали на песочном пляже, пили красное и, немного, белое, а вечером в самом счастливом настроении расселись у костра.
За деревьями, в желтых отблесках небольшого огня плясали бородачи, отбрасывая демонические тени. Мягков с рыжей Кирой – к тому времени уже муж и жена – ушли на дальнюю базу отдыха искать байдарки. Анна со своей мамой и Изабеллой готовили салаты и бутерброды, с ужасом поглядывая на Петра Богомолова. Тот в ковбойской шляпе ползал на коленках вокруг костра и раздувал его так, словно был стеклодувом в десятом поколении. Глаза Петра стали красными, костер пылал, дым всех мучил, бурлящая уха испарялась к звездам, но Петька, как только видел тлеющий уголек со всей мочи снова начинал дуть, и никто его не мог остановить.
Федор, упершись спиной в неудобный пенек, читал мятую лоцию маршрута, помечая карандашом места остановок, и обсуждал с отцом Анны детали сплава. Семен Анатольевич Миловидов был известный в стране альпинист, и Федору было лестно, что тот сидит рядом и запросто общается.
Гриб, глядя в небо, слушал старое радио. Пелагея, подложив руку под голову, лежала рядом на боку, изящно согнув белеющие в темноте ноги. Девушка, несмотря на прохладу, была в коротких джинсовых шортах и красных кедах. Иногда, между разговорами и делами, все поглядывали на белые розовые ступни Дэва Медузова пятьдесят второго размера, торчащие из одной палатки. Отец Пелагеи весь день спал и страшно храпел. Недоумова отправила его следить за дочерью.
Пол Маккартни запел Yesterday. Гриб сделал громче.
С Федором иногда бывало, что он вдруг как будто просыпался и смотрел со стороны на свою жизнь. Так и сейчас песня тронула его, он моргнул и как будто впервые увидел костер, палатки, непонятных людей вокруг – его близких друзей и подруг. Он посмотрел в звездное небо и задумался. Семь лет назад узор в калейдоскопе был совсем другим. Он вспомнил сборы в Италии с лучшими гонщиками мира. Один русский тогда тоже пел Yesterday. «А ведь я не знал, – подумал Федор, – что через семь лет буду сидеть, прислонившись к пеньку рядом с великой Волгой, не знал, что познакомлюсь со своими друзьями и получу диплом лучшего университета страны. Все же мне сильно везет, раз я знакомлюсь с крутыми людьми! – размышлял он. – Что бы ни говорили, жизнь – это чудо!»
Послышался треск ветки. Дэв Медузов выполз на карачках из палатки, потянулся с хрустом и сел на складной ржавый стульчик.
Оглядев сонными глазами поляну, Медузов вытащил из кармана камуфляжных брюк противомикробный гель и протер огромные длинные руки, смазал ноздри оксолиновой мазью и зажевал таблетку от отравлений. Было известно, что в своих карманах Медузов хранил, помимо препаратов от микробов и вирусов, аптечку первой помощи, инструкцию первой помощи, бумажку с именем, резусом, группой крови, списком аллергий, адресом, телефонным номером жены. Также в его бездонных карманах хранился набор фотографий рептилоидов и свисток от акул.
Он был весьма странным типом.
– Зачем вам все это? – вдруг спросил Дэв, поправляя серую кепку с высоким околышем, в которой походил на фрица. – Ну зачем плыть кругосветку? – Он раздвинул мясистые губы и расширил в умилении глаза. – Сделаем вид, что нам интересно, посидим на дорожку и домой. Объясните мне, зачем грести неделю по Волге? Там и течения нет, и опасно, если говорить честно. Я этого ну никак не понимаю, объясните.
Отец Миловидовой, Семен Анатольевич, худой высокий человек с обветренным русским лицом и ясными синими глазами, стругавший новую палку для костра, с насмешливой улыбкой глянул на Дэва, что-то пробормотал в седые усы и не ответил. Остальные, считая Миловидова лидером команды, промолчали.
– Женя, ты похож волосюшками на Роберта Ред-форда! – сказала Пелагея Медузова, ероша рукой густые длинные волосы Гриба, обросшего хуже Глызина. – Ты мой Редфордюшка!
Гриб и вправду походил на Редфорда, только был щуплым и маленьким и мог играть знаменитого «афериста» разве что в сценах, когда тот фотографируется на паспорт. Слова Пелагеи обидели его.
– Я, конечно, Редфордюшка, – ответил Гриб, подмигнув Федору, – но тот, кто научил тебя слову «волосюшки» и всем прочим твоим словечечкам, – болезненно завистливый человек и неудачник. – Он внимательно посмотрел на Пелагею и продолжил: – Кстати, если ты, как обычно, хочешь сказать: «не смей орать на меня», то знай, что слово «орать» – плохой маркер. Так говорят только несчастные жены барабанщиков и необразованные дуры. Прости, не помню, у тебя вроде был муж барабанщик?
– Ты свинячее хамло!
– Ладно, не забивай голову коннотациями! – ответил, улыбаясь, Гриб. – И вообще, почаще используй эвфемизмы! Например, «невоспитанный грубиян» – значение почти то же, а звучит гораздо приятнее. И мужчины, может, полюбят тебя!
Пелагея резко вскочила и пересела к Федору, прижавшись к нему бедром и плечом. Как бы в отместку Грибоедову, громко гоготавшему ей вослед, она стала ласковой с Федором, улыбалась ему, заводила светлые волосы за маленькое ухо, приближала к нему широкую скулу, смотрела на него красивыми блестящими глазами, в которых отражалось пламя костра. Федор шумно расправил речную лоцию и притворился читающим. Женя Грибоедов включил громче радио и сделал глаза, как у лемура.
– Мне ответят, зачем плыть? – спросил Меду-зов, пересчитывая на ладони мелочь.
– Зачем вообще что-то делать? – вспылил Федор.
– Глупо рисковать собой!
– А вы сами-то поплывете? – спросил Миловидов, подмигнув Федору.
– Конечно нет! – сказал Дэв, просветлев. – Я взрослый, разумный человек.
– Если нет, то лучше помолчать! – спокойно сказал Семен Анатольевич и посмотрел ясными глазами на Медузова.
Тот отвернулся, и Миловидов продолжил строгать деревцо, с силой срезая большим охотничьим ножом боковые ветви.
Анна и Петр спорили все громче. Петр залез ложкой в котел с ухой и убеждал Миловидову, что в супе мало соли. Анна, изящно мотая головой и округлив честные глаза, доказывала ему, что каждый сам положит соли по вкусу. Мама Миловидовой, закончив нарезать сыр, минуту смотрела на Богомолова и принялась нарезать хлеб. Будущая теща Богомолова, прекрасная женщина, умела молчать; впрочем, будь на ее месте Недоумова, Петька заткнул бы Недоумовой рот.
– Нет, не солено, – сказал Петр, пробуя с ложки. – Не солено!
Богомолов сбегал в палатку и насыпал в уху свою личную соль, которую не сдал в общий съестной баул. Попробовав еще раз, он кивнул и снял котелок с костра.
– Давайте поговорим о мужчинах, Дэв! – продолжил Семен Анатольевич, как бы объясняя свою резкость. – Я альпинист и часто слышу вопрос: «Зачем?» И я знаю, как отвечать таким, как вы. Никак! – Миловидов немного помолчал. – Люди, подобные вам, никогда не поймут тех, кто готов рисковать жизнью ради большой мечты. Зачем отмораживать пальцы, зачем страдать от отека мозга, зачем терпеть адскую боль и зачем умирать под лавиной? Разумного ответа нет, и мне лично непонятно, откуда в человеке есть свойство гробить себя. И все же люди, слабые хрупкие люди, люди с большим сердцем и горящими глазами, конечно, не такие разумные, как вы, Дэв, не будут задавать этот глупый вопрос, – говорил Миловидов, не отрывая спокойного взгляда от Медузова, – они будут пытаться! Эти люди, на радость таким, как вы, часто погибают, умирают в нищете, сходят с ума, остаются в одиночестве, но это титаны, на плечах которых держится наш мир, господин Медузов. Человечество не достигло бы и малой доли своего величия, если бы эти титаны задали вопрос «зачем?» – Миловидов долго смотрел на Дэва и молчал. – Первый шаг ребенка, сплав по реке и вершина – это одна история. Так что мы с вами, Дэв, из разных галактик и никогда не поймем друг друга. Уважайте наши безумства и уж тем более мечтания молодых, пока они не расхотели. Извините, если обидел.
Федор Ребров бросил на Семена Анатольевича благодарный взгляд, чувствуя в нем близость своим ощущениям, которые еще не наполнились личным опытом и не осознались словами.
– Вы меня не обидите, – сказал Медузов заносчивым тоном, не глядя в глаза Миловидову. – Я только из-за дочери здесь, в этой дыре, Самаре. А вообще я из Москвы. Сын депутата, а не абы кто! Нечего тут мне с вами болтать.
Дэв встал с застрявшим на жирном заде стульчике, со звоном выбросил его и спрятался в палатке. Отец Анны проводил его насмешливым взглядом. Федор осторожно посмотрел на Пелагею, все еще сидящую рядом, и задумался о ее отце. Медузов был сыном депутата Верховного Совета СССР, говорил бархатным голосом, казался человеком представительным. Он умно размышлял на любую тему, однако удивил своими вассермановскими штанами с аптечкой и верой в рептилоидов. В то же время Медузов грубейше ошибался в вопросах, в которых Федор был специалистом, что заставляло сомневаться и в других его выводах. А теперь, по этой заносчивой, капризной, даже детской реакции на слова Семена Анатольевича, он показался совсем странным. «Кто же ты такой, Дэв Медузов?» – задал себе вопрос Федор.
Вернулся Илья Мягков, похожий в своей кепке-восьмиклинке на бирмингемского бандита. Подтянув клетчатые штаны, он уселся рядом с Миловидовым на пенек. Наблюдая, как альпинист обухом топора вбивает выструганную им палку вместо старой рогатины, Мягков сообщил, что байдарок в прокате не было, но были деревянные плоскодонки прошлого века.
Мама Миловидовой заколотила ложкой по тарелке, призывая всех к ужину.
22
Друзья и подруги, рассевшись в разных позах на бревнышки вокруг костра, ели уху. Слышалось, как Петр елозил ложкой по донышку железной тарелки. Круг света позади спин обрывался, и все казалось черным. На небе, куда улетали огоньки из костра, высыпали звезды. Стало свежо. Лица людей от пламени казались желтыми.

