Петрухе казалось все время, что он ходит в мире по кругу, как тень в ночи, ненужный и невидимый.
Вот и сейчас, когда снег валил хлопьями размером с яйцо, когда ноги было не выдрать из сугробов, он тащился по полю у леса незнамо куда и зачем, и ящик за спиной весил как целая овца. Петруха сбился с пути. Дорогу в снегах он потерял еще утром, но, встретив хохочущих и пихающих по-братски лесорубов, он не сказал им ни слова и даже не поднял взгляда. И лесорубы его тоже не заметили, прошли мимо куда-то наискось. Когда Петруха двинулся было следом, понадеявшись, что местные выведут его к деревне, лесорубы пропали где-то среди ветвей, кустов и снежных хлопьев.
Петруха остановился.
Тут – сияющее поле до горизонта. Там – сосновый лес, трескучий и загадочный. И ни души вокруг. А впрочем, и в толпе Петрухе всегда казалось, что кругом ни души…
Думать было нечего. Петруха попер дальше, но метель разошлась такая лютая, что он и сам не понял, как попал в лес. Ветер бросался снежными покрывалами, деревья вели хороводы, все выло и свистело по-разбойничьи. Петруха почувствовал себя лишним в этом мире великанов и вечных сил природы, он почувствовал себя муравьем, последним муравьем на земле.
Кое-как пробираясь сугробами, он наткнулся на лесную избушку. Петруха ткнулся в нее лбом и поскорее ввалился в двери. Внутри – никого. Холодная, давно нетопленая печь, холодная лавка, холодный стол с кривыми ножками и табуретка – вот и все. Да где-то пищат сонные грызуны, недовольные незваным гостем.
Петруха свалился на лавку и, дыша через силу, нашел в ящике с музыкальными инструментами сухую лепешку. Струи снега вихрились в щелях ставен и у продырявленной кое-где крыши. В углу, в паутине, валялся лук, стрелы и силки, но похоже, что в эту охотничью избу давно никто не заглядывал. И когда Петруха снял с ящика одеяло и собрался развалиться на полке, снаружи, среди грохота и треска, послышались шаги.
Петруха замер, приподнялся. Шаги обошли избушку по кругу, нервные какие-то, резкие. И, что странно, когда они слышались где-то за печкой, внезапно растворилась дверь в другой стороне дома. На пороге стояла такая безобразная ведьма, что Петруха застыл от страха!
Что это была за бабка! Один глаз большой, другой – маленький и навыкате, нос крючком, щетинистый весь, бугристый, зубы торчат наружу, острые, как иглы. Руки старухи дергались беспрестанно и были такие длинные, что доставали почти до пола; пальцы -кривые кинжалы. Одна нога куриная, другая – деревянная. Волосы бело-серые, как грязный снег, клочковатые, а в копнах нечесаных – колючки и шишки. Одета бабка была в лохмотья, спутанные и связанные из обрывков каких-то древних тряпиц, еще более ветхих, чем сама укутанная в них ведьма.
– Гой еси, добрый молодец, – прокряхтела она. – Кхе!
– Э, – выдавил из себя Петруха и вжался в дальний угол, к печке.
– Э, – передразнила старуха и закрыла за собой дверь.
Метель снаружи как-то резко замолкла, и в полумраке охотничьей избы стало тихо и душно. Щели в ставнях залепило льдом, на столе и стенах появился иней. Петруха хотел было дернуться к ящику с инструментами, схватить там хоть что-нибудь, хоть шамейху, или нож, но его сковал холод, и он не шевельнулся, а лишь смотрел на страшную бабку во все глаза. Ведьма стукнула деревянной ногой и села на стул.
– Каких городов будешь, добрый молодец? – спросила она ехидно. – Каких стран заморских, каких рек-океанов? Каких отцов сын? Кхе…
– Э, ведьма, – прошептал Петруха и сдвинул брови, – двоим нам в этой избушке не вместиться. Пойду я своей дорогой, а ты не смотри мне вслед.
– Кхе… Мне и на полке скошенной места хватит, а ты можешь в печке переночевать, кхе… – бабка ухмыльнулась. – Не съем я тебя, человек, не покусаю, а люди метели тебя, сахарного, понесут, поведут, ветками и колючками на клочки изорвут.
Ведьма скривилась и вдруг вынула из носа маленькую змейку, зашептала ей что-то на своем языке, а потом опустила на пол. Змейка заизвивалась и влезла в печку, а мгновение спустя там загорелся белый, совсем не горячий огонь. Видя замешательство Петрухи, старуха снова усмехнулась, но горько и беззлобно.
– Нечем мне тебя угостить, добрый человек, – сказала она, – сама уже лет восемь ничего не ела. Возьми хоть косточку погрызи, не говори потом, что ведьма встретилась жадная.
Старуха сунула руку в лохмотья и положила на стол звериную кость. Размером кость была с кулак, замерзшая, как льдинка.
Петрухе стало совестно, он полез в ящик с инструментами и достал разломанную лепешку. Кусок протянул бабке.
– Возьми, ведьма, – пробормотал он. – Музыканту и кость угощение, а лепешка – настоящий пир.
Он подумал, что она, эта трухлявая ведьма, эта клыкастая образина, похожа на него своим одиночеством, и увидь он себя хотя раз в зеркало, быть может, нашел бы там такое же чудище, и, быть может, он вызывает в людях такой же страх и такое же отвращение, как эта старуха у него.
Поэтому он вынул из ящика пузырек самогона, который ему дали в какой-то деревне лет пять назад, и тоже поставил на стол.
– Кхе, сынок, – сказала бабка, – такой стол, да без мяса, – ведьма с загадочным прищуром посмотрела на Петруху и снова кхекнула.
Петруха скривился весь и лицом и телом и снова влез в угол.
– Всего не съем, не пужайся, молодец, – добавила ведьма, все больше веселясь, – разве среди ночи какой пальчик откушу, коли совсем оголодаю. Или другую еще забавину…
– Подавишься, бабка, – пролепетал Петруха.
Ведьма улыбнулась так, что торчащие ее как попало клыки разъехались к ушам, но улыбка вышла и не веселая, и не злая, а какая-то тихая и уставшая.
Старуха посмотрела кругом себя, подошла к печке, сунула руку в пламя и достала откуда-то из горнила камешек льда. Между пальцев лед превратился в змейку, и она юркнула под трухлявую одежду. Ведьма покосилась на музыканта, потом на его добро на кровати.
– Гусляр ты, лирник? – произнесла старуха, внезапно вынула один глаз из глазницы, взяла его пальцами и покрутила над ящиком с музыкальными инструментами.
– Музыкант я, ведьма, – сказал Петруха, – твои духи для меня – что муравьи.
– Кхе, – сказала ведьма и вкрутила глаз на место. – Сорок лет не слышала я ваших песен, сахарный, сыграй мне немного, тогда, может, и не откушу от тебя ничего. Кхе!
Петруха проворчал что-то непочтительное к старости и очень торопливо, как будто сам того жаждал, вынул из ящика синдэ – такой инструмент со струнами на тонкой палке и с ящиком внизу. Петруха глянул на бабку, тотчас отвернулся и отцепил от грифа закрепленный там смычок.
Ведьма стала у печки, а Петруха медленно повел смычком по струнам, сам еще не зная толком, что ему играть. Музыка поползла сначала, как цепь по каменному полу, звонкая, прямолинейная и пустая, но потихоньку раздвоилась, стала гибче, превратилась в тугой водный поток, что гонит тяжелые льдины то ли к запруде, то ли к океану. И чем дольше слушал себя Петруха, чем дальше гнал он этот поток под сиреневым небом, среди рощиц и зимних цветов, тем мягче становилась музыка. Она уже поднялась и рассеялась утренним ветерком, помчалась над полями, над лугами, над долинами и волнами, цветущая и ранимая, музыка нежности и красоты, рвущейся наружу из сухого, сломанного тела. И хоть не было в игре Петрухи ни тонкости, ни мастерства, каждый звук его безлюдной и чарующей музыки был как сорвавшаяся росинка, как бабочка, кружащаяся на цветущем поле. Столько умиротворения было в этой музыке, что ведьма, подойдя к замерзшим ставням, увидела во льду свое отражение и спешно коснулась его, и лед в такт мелодии побежал тонкими узорами по стенам избушки, рисуя оленей в весенних лесах, рисуя соленые воды далеких морей и птиц в небесах, рисуя тихие ручьи с камышами и снующих в воде рыб. Только людей не рисовал лед, и только людей не было слышно в музыке Петрухи.
Музыкант улыбался, улыбалась и ведьма у печки…
Среди ночи Петруха проснулся в поту. Трещали доски под крышей, а бабка уже ушла. Одна косточка на столе осталась.
Метель утихомирилась; Петруха поспешил нацепить на плечи ящик с инструментами и зашагал через лес к восходящему солнцу.
За полдень он добрался до деревни и еще целый час шатался по улице, но никому до него не было дела. Какой-то мужик во дворе рубил дрова; чурбан выскочил и хлопнул Петруху по голове. Мужик подобрал чурбан, а на подбитого им музыканта и не посмотрел. В другой избе Петруха обошел все комнаты, приставая к каждому по очереди, но никто не обратил на него внимания, никто не ответил. Всем плевать было на Петруху. И псина дворовая не залаяла…
Петруха нашел дом старосты и полчаса, на злющем морозе, в сумерках, проторчал под окнами, пока его не заметили. Да и как заметили! Сам староста три раза прошел мимо – то в курятник, то в хлев, то в туалет, и лишь на четвертый раз вдруг поворотил голову, да взвизгнул испуганно.
– Матушка родная, нечистая сила, ой! – старик подскочил и вылупился на музыканта. – Что за тать схоронился под моим окном?! Глагуша, Глагуша, дай его топором из окна!
Петруха и сам перепугался, забегал кругами по двору, а тут со всех сторон налетели какие-то деревенские с гусями и собаками, завалили очумелого музыканта в сугроб, измяли его хорошенько, погнули, порвали штаны.
– Эх, люди вы черные, злодеи бессердечные! – кричал им музыкант, пока его тормошили вверх ногами, пока в снег не упала вывалившаяся из кармана небольшая флейта.
– Тьфу, – плюнул кто-то рядом, – да то лирник заезжий…
– Так и что же? – продолжая давить тумаками спросил какой-то дед.
– По Михтуру видать.
– В бочку обоих и – бултых – в порубь! Раз – и все разговоры.
– Обожди его мять, дай слово человеческое сказать.
Петруху посадили в сугроб и долго что-то выясняли. Что они там выясняли – в бумагах артели не записано, в голове музыканта стоял такой звон, что он не слышал ни слова, ни треска.
Наконец, когда стемнело совсем, деревенские о чем-то договорились и повели Петруху в дом.
Ему дали отъесться миской горячей каши, а потом, не спрашивая, потащили было в избу, где проживал одержимый духом. Здесь опять случился какой-то переполох. Ввиду того, что Петруха до сих пор слышал один звон и ничего не понимал, автор, мудрый и непростой, видите ли, человек, решается предположить, что в тот час выяснилось, что одержимого, собственно говоря, потеряли. Всей деревней, как сказано в артельных бумагах, поперлись его искать по улицам, по амбарам, по колодцам, по прорубям и могилам, да так, наверное, и не нашли бы, дурного, но уж начало светать и тут с поля раздался дикий вопль:



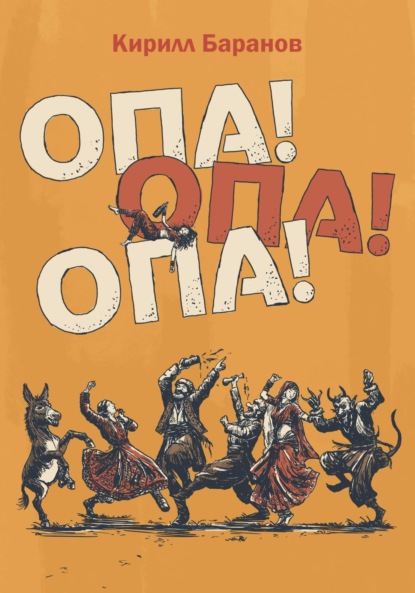




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0