«Славный, добрый дедушка, оттаскать бы тебя за бороду! – Дым молча наливался злостью, он знавал подобных шутников, обращавшихся порой, к изумлению бравых рыцарей, бронированным драконом или ещё каким чудовищем. – Нет уж, я удалюсь без слов, но потом вернусь и выпотрошу из тебя всё, вплоть до замечательного сундука».
– О, храбрый юноша, отчего так быстро покидаешь меня? – глумился дед, но Дым лишь прибавлял ходу.
«Козёл-провокатор! С какой радостью я снесу твою плешивую головёшку, только не уходи!» – Дым кипел, в самый раз кого-нибудь зарезать.
Не успел Дым отойти достаточно далеко, как на него выскочил орущий детина с топором (заказывали?), что он орал – не разобрать, но намерения имел недружелюбные. Дым не подал вида, что готов к бою, не считая руки, лежащей на рукояти клинка, но когда мужик оказался совсем близко, Дым провёл укол с выпадом. Противник крякнул и рухнул на землю, проткнутый насквозь, перекрашивая близлежащую травку в красный цвет и наполняя победителя дополнительной силой.
– Наконец-то, – прозвучал незнакомый голос, в котором слышались оттенки облегчения и плохо скрываемой радости.
– Кто здесь? – Дым не испугался, спросив по инерции, понимая, что никто не появится и вряд ли отзовётся. Так и вышло.
Пора внимательно рассмотреть напавшего. Удивительно, мужик не походил ни на злодея, ни на обкуренного наймита, притом, что не посещал ни бани, ни цирюльника. Ещё занятней то, что мужик сильно напоминал самого Дыма, до того момента, как он надел кольцо.
«Интересно, напал бы он на меня, сними я кольцо?» – Дым спрашивал, не сомневаясь в ответе, игра действительно являлась многовариантной – то, что он по-настоящему любил в лучших Role Play Games.
Дальше, по сложившимся игровым традициям, следовало обшарить труп, но послышавшийся лай заставил Дыма сосредоточиться и ждать новой схватки. Однако появившиеся собаки не проявили к Дыму интереса, набросившись на труп убиенного, от которого очень быстро остался только топор. После чего одна из собак, виляя хвостом, подошла к Дыму и облизала ему руку, ту, на которой оставалась кровь, а следом и клинок, ничуть не боясь гибели. Проделав всё это, собаки исчезли.
«Этот мир слишком рационален, по крайней мере, пока, а значит, я легко обойду его законы», – Дым закинул топор в мешок и двинулся в обратном направлении, имея простой и безукоризненный план.
– А-а, у тебя уже появились вопросы? Послушаем, послушаем, – старик пребывал в хорошем расположении духа.
«Вопросы это у тебя, а у меня появились ответы», – кипел желчью Дым, продолжая, при этом, широко улыбаться.
Приблизившись, он совершил нелогичное действие – воткнул клинок в горло старику, а потом ещё и ещё, колол и рубил, рубил и колол – остановили собаки, прибывшие на кровавый ритуал. Снова всё повторилось, включая слизывание крови с рук, оружия, а теперь и одежды, после чего Дым оказался чистым и опрятным. В остатке какой-то амулет, ну и, конечно, сундук. Помучившись с замком, Дым вспомнил о ключике в ларце. Готово! Но, перед тем как откинуть крышку, Дым надел амулет…
Очнулся он подле того же сундука, амулет по-прежнему висел на шее, а сундук оставался закрытым, но мир изменился – звуки, цвета, ощущения, всего стало много, очень много, Дым только слушал и смотрел по сторонам. Описать увиденное не достанет слов, лучше погожим летним деньком выйти к нескошенному лугу и нырнуть в его пушистую траву, задыхаясь от пьянящего аромата свежести и молодости, наслаждаясь трелями и переливами пения невидимых птиц и многократно повторяющимся гулом бесчисленных насекомых, с постоянными сменами ритма и тональности. А чуть оттолкнувшись от земли, взбежать ли на невысокий холм, либо просто взлететь, подчиняясь охватившему восторгу, и окинуть взглядом окружающую красоту, теряя последние остатки рассудительности, подчиняя своё существование одним лишь чувствам. Очень сложно видеть звёзды сквозь дневной свет, а Дым видел; также сложно слышать шум воды, бегущей глубоко под землёй, а Дым слышал; и совсем невозможно ощутить присутствие смерти, её иероглифа, над всем этим миром, но Дым ощущал.
«Странно, старик должен был знать мои намерения, но почему он не защищался? Он не верил или не мог?» – ответом Дыму послужил смех, громкий, но недолгий смех того же загадочного голоса.
Решив применить новые способности, Дым попробовал отследить источник голоса, но тот был везде и нигде, то концентрируясь, то растекаясь, а то и вообще покидая пределы осязаемого пространства. Дым окончательно прочухался и переключился на добычу. Сначала нерасшифрованная книга из мешка, последовательность желательно соблюдать, это слишком очевидно и логично, чтобы этим пренебрегать. Так Дым получил заклинание сверхинтуиции, дающее временную способность сканировать пространство вокруг себя, с очень высоким разрешением проявляющихся объектов. При первом прочтении Дым увидел крупную деревню, вполне мирную на вид, куда он и наведается, предварительно выпотрошив сундук.
Ловушки он обезвредил легко, теперь легко, но попробуй открыть без амулета (и, кстати, заклинания) – труп, так что у Дыма лишний повод похвалить себя за опытность и осторожность. Внутри сундука – богатый улов: и одежда, и доспехи, и оружие, и книги, и много всяких полезных, а также не очень полезных, мелочей. Единственное, что удивило Дыма, – это невозможность прочтения ни одной из новых книг, что указывало на их повышенную сложность. А вот со всеми видами таблеток Дым разобрался, обычный набор: лекарства, антидоты, стероиды и тому подобные средства.
Об оружии особый разговор: новый клинок был длиннее, острее и прочнее предыдущего, а главное, отсвечивал неестественным лиловым блеском, предупреждая о магических свойствах. Опробовав его, Дым признал, что получил нечто большее, чем оружие, ведь даже разжимая ладонь, он не ронял сего предвестника смерти, а скорость фехтования делала меч неразличимым для глаз, улавливался лишь свист рассекаемого воздуха, как пение таинственной кровожадной птицы. Понятно, что возросла и техника владения, ведь Дым получил огромный опыт (за старика), кроме множества бонусов, сокрытых в амулете. Стрелковое оружие отсутствовало.
Завершив экипировку, Дым захотел оценить новый облик, а для этого требовалось подойти к озеру. То злобное растение его не сильно пугало, Дым и сам не менее злобен, поэтому он направился к воде, в правой руке сжимая новый клинок, а в левой – топор первой жертвы. Монстр не подавал признаков жизни, прикинувшись мирным деревом, возвышающимся прямо над зеркальной гладью, никаких щупалец или их подобия, просто большое старое дерево. Дым смотрел на него, пытаясь понять, кто с кем справится, в размышлениях он легонько подбрасывал топор и вращал мечом, скорее поигрывая, чем демонстрируя силу, но монстр испугался и, издав вздох разочарования, втянулся под воду. Дым даже обрадовался такому положению, всё-таки его не покидала неуверенность в исходе боя, а теперь всё выглядело как в самом начале игры, можно подойти к воде и посмотреть на отражение.
«Ого, нехилый дядька получился!» – Дым аж присвистнул от удивления.
Тот, из озера, демонстрировал нечто древнее, поначалу возбуждающее интерес, но, по сути, невообразимо чуждое и отталкивающее, недостойное звания человека. Дым довольствовался внешним лоском, не вникая в меняющееся сознание, разделённое с каналом духа, приданным каждому человеку, разделённое тонкой, но очень прочной перегородкой из первобытного страха (холодом, поразившим сердце). Перегородка не вечна, и она растает, но к тому моменту истина не испугает, а восхитит, низвергнув душу в тёмные объятия зла, будто ведя в небесные города. Это путь тьмы – путь искажения и обмана, путь искушения малостью за потерю бесконечного, золото вместо благодати, подвал вместо храма. Это путь, отвергающий святость духа, измеряющий духовность биохимией, генетикой и прочим узким знанием… материализм – это ода смерти, одна из самых убедительных приманок пресытившимся свободой воли.
Кто теперь Дым? Уверенный сильный воин, на вид тридцати пяти – сорока лет, благородного происхождения, относящийся к правящей касте, – судя по одежде и властному, волевому противопоставлению себя миру.
Дым приближался к деревне, ожидая решения некоторых вопросов, он ещё не знал, что идёт на турнир, на который попадёт, едва зайдя в деревню, не знал, что выиграет его без всяких проблем, после чего получит приглашение от местного феодала. Стремительность событий не смущала, как не смущало и общее неодобрение его персоны, ведь всякого перечившего Дым убивал. Понятно, что нарастал опыт а, становясь сильнее, Дым продолжал отдаляться от того славного доброго малого, каким его знали ещё недавно.
Верхом наглости, по местным понятиям, сочли самовольный перенос Дымом запланированного визита к аристократу, перенос на следующий день, после хорошего сна, а на предупреждения и угрозы Дым отвечал смехом. Когда он вошёл в таверну, ему показалось, что он ослеп, но это почернел экран, не давая проявиться картинке внутреннего устройства заведения, а потом высветилась надпись:
«Только здесь Вы можете сохранить игру. Желаете сохранить?».
«Да».
Дым снял шлем и разжал пальцы, избавившись от джойстиков, он устал, но правила требовали записать log, пока свежи впечатления. Отстучав свои приключения, Дым свалился на постель и очень быстро уснул. Был глубокий вечер.
Жизнь 1101-я
9
– Мы неправильно воспитали нашу дочь, это твоя вина, твоя вседозволенность и всепрощение, ты совершенно неспособен проявить власть. Где твоя дочь?! – дама чуть за сорок говорила по телефону, говорила уже с полчаса, испытывая собеседника и угрозами, и заклинаниями, и упрёками, но в конечном итоге всегда срываясь на крик. Ей никак не удавалось осмыслить, как можно не реагировать на то, что дочь не ночевала дома, даже если ей девятнадцать лет. Ведь девочка – совсем ребёнок, оттого и состоялся её первый отрицательный опыт общения с мужчинами. Дама не понимала, куда делся добрый муж и отец, где тот чуткий и внимательный человек (перебор, таким она его давно не считала), который всегда был рядом и вдруг, в какое-то мгновение, его не стало, словно она принимала за живое эфемерный контур, исчезнувший от лёгкого дуновения ветерка. Ещё вчерашний день размывался похожестью на все предыдущие дни их счастливого (очень крутой допуск) двадцатидвухлетнего брака, когда она вернулась с вечернего спектакля (плюс небольшая вечеринка) и, уверенная, что дочь спит в своей комнате (муж уже храпел, желая ей тем «спокойной ночи»), со спокойным сердцем тоже легла. Утром всё переменилось, и, обнаружив на автоответчике то дурацкое сообщение Ксюхи, она позвонила мужу (после неудачной попытки связаться с дочерью), надеясь на понимание и принятие мер. Она всё говорила и говорила, а он всё молчал и молчал.
Он терпеливо слушал причитания жены, некогда очаровательной и нежной, а теперь походившей на расписную фарфоровую куклу с дурацким писклявым голоском, пришедшим на смену любимому им колокольчику. Когда-то он нежился в её голосе, нежился часами, не обращая внимания на произносимый бред, какой толк от слов, если ты очарован звуком, взбудоражен гибким, упругим телом, а смыслом наполняешься в собственных фантазиях. Их love story не претендовала на поэму, ограничившись несколькими строфами, – колокольчик улетучился с сигаретным дымом, тело потяжелело, не потеряв остатков привлекательности (в его фантазиях присутствовали совсем иные образы, по-прежнему молодые и ненасытные), не изменился лишь бред, произносимый изо дня в день, с завидным постоянством. Сплошные руины, но и они источались в песок. Впрочем, дочь он обожал.
Алексей Петрович вырос в интеллигентной семье, папа профессор (обыкновенный доктор наук) одного уважаемого института, а мама директор универмага (это серьёзнее), данное сочетание открыло семье некоторые перспективы в обществе социалистического распределения. После института (отцовского, конечно) Алексей Петрович пошёл в науку, а ещё на третьем курсе женился на сокурснице, и через положенный срок родился мальчик, а ещё через два года – Ксюха, всё как у людей. На заре капитализма научную работу пришлось отбросить и впрячься в коммерцию, впрочем, не впрячься, а просто перенять у матери бразды правления теперь уже собственным магазином. Потом прибавились другие магазины, образовав к настоящему времени торговую сеть. Сын учился на юриста, ему предстояло наследовать семейный бизнес, а дочь заставили изучать финансы, что не менее разумно.
В начале девяностых годов Алексея Петровича посвятили в семейную тайну: оказывается, его отец (дед, прадед) происходил из дворян и имел графский титул, так что теперь он тоже типа граф. В наше время опасаться нечего, и Алексей Петрович рассказал обо всём жене и детям. Зря рассказал. Веселье сменилось тщеславием, глупым, вычурным тщеславием, заставившим поступиться здравым смыслом ради пустого самолюбования и «счастливого» презрения остальных, «неблагородных». Под влияние попали жена Алексея Петровича и сын, а Ксюхе – «до фонаря».
Нескончаемый поток слов отчаянно мешал работать, нет, Алексей Петрович не чёрствый человек, каким его выставляла жена, но за дочь он не переживал, считая её вполне взрослой и достойной собственных ошибок. Иначе никак, ведь его нынешняя любовница, весьма молодая особа, имела самостоятельности и здравомыслия, особенно здравомыслия, поболее, чем у жены, лишний раз убеждая, что возраст ещё не гарантирует настоящего опыта. А то, что однажды он вмешался в личную жизнь дочери, так это на пользу, пусть девочка знает, что её при необходимости защитят.
– Что ты от меня хочешь? – Алексей Петрович не выдержал, вместо того, чтобы сосредоточиться на очерёдности исполнения контрактов в увязке с недельным прогнозом поступления выручки, ему приходилось барахтаться среди малосвязанных слов, всхлипов, вздохов и прочих эмфатических излишеств.
– Как это что? – она растерялась от вопроса, вклинившегося в её монолог. Она не ожидала признания собственного бессилия, особенно после всего ею сказанного, собственно, она хотела лишь заставить его серьёзно поговорить с дочерью, после того как та вернётся домой. Она надеялась разбередить в нём отцовские чувства, понимая, что он продолжает отдаляться от неё, надеялась вернуть семье, пусть частично, но вернуть, отняв немного у работы и немного у той порочной связи, на которую он себя обрёк.
Конечно, она знала про адюльтеры мужа, знала и терпела, но последняя пассия, практически ровесница дочери, вызвала горячий протест, желание кричать и бить посуду, но она молчала. Она ни разу не попрекнула мужа своим недоверием, даже сейчас, будучи в заведённом состоянии. Когда это произошло первый раз (давно, очень давно), она не знала, что говорить и как говорить, она не то чтобы растерялась, она, скорее, возгордилась, считая даже разговоры на подобную тему унижением её любви. Для второго раза женщина приготовила целую речь, полную укоров и малоприятных сравнений, речь, призванную отхлестать загулявшего мужчину, заставить его задуматься и отказаться от порочного образа жизни. Но все слова вставали комом в горле, когда она видела глаза детей, смотревших на отца с обожанием и нежностью, глаза, в которых отражалась его бесконечная ласка и безграничная любовь. Она не смогла ударить по семье, подвергнуть идеал свержению и снова промолчала, снова простила. После этого осталось смириться, поставив на первое место благополучие семьи, а теперь, когда дети выросли, а она потеряла былую свежесть, приходилось думать и о себе, ведь любой серьёзный скандал станет губительным прежде всего для неё, оставляя взамен лишь сомнительное моральное удовлетворение. Всё бы ничего, но последнее увлечение мужа не давало покоя, она боялась этой девушки, этой малолетки с хваткой тигрицы.
– Я бы не прерывал твоего молчания, – Алексей Петрович не отказал себе в удовольствии съехидничать, считая это маленькой местью за испорченное утро. – Но твоё частое дыхание становится навязчивым, по-моему, я сейчас почувствую твой запах.
– Ничего, не задохнёшься, чудак бесчувственный, – использование эвфемизмов, делало её фразы комичными, лишая страсти и «праведного» гнева, но при правильном прочтении получалось убедительно. Что поделать, матерщина претила всей её теперешней сущности, хотя по молодости всякие словечки слетали. – Ладно, дома поговорим, я слышу, Ксюша вернулась.
Ксюха надеялась, что обойдётся, но прошмыгнуть к себе не удалось, путь лежал через зал, а там, в позе Моисея над осколками разбитых скрижалей, стояла её мать. Ксюха виновато улыбнулась и нервно повела плечами, стараясь втянуть голову хотя бы до их уровня – не действовало, похоже, Моисей собирал весь свой гнев, чтобы исторгнуть из глаз смертоносные молнии, повергая непослушное стадо. Тогда Ксюха опустила глаза долу и, оставив руки безвольно свисать вдоль тела, пошаркала левой ногой, получилось смешно, и она прыснула лёгким девичьим смехом.
– Прекрати паясничать! – громковато, но бедная женщина видела не только дочь, но и привлекательную молодую женщину, эта мысль появилась случайно, а сравнение оказалось беспощадно, что же ей оставалось – только кричать и плакать. Крика сегодня достаточно, и она заплакала, опустившись на пол. Нет, дочь она любила, как же иначе, но когда дети вырастают и отдаляются, что естественно, кажется, это кара за собственную невнимательность и нелюбовь, когда твоё эго, отражаясь от детей, как от зеркала, пробивает брешь в привычном укладе и благополучии, пожирая их – так иногда начинается старость. Или в театре, привыкнув «бороться» за чьи-то поддельные чувства, иной раз срывая аплодисменты, она утратила ту часть себя, которая формирует отношение к жизни, отношение к людям – далёким и близким, заменив её компотом из сыгранных ролей, в том числе и неудачных, постигнув то, от чего всегда предостерегали лучшие режиссёры. Сложность и в том, что исполняемые роли – это молодые женщины и даже девушки, роли, от которых она категорически не отказывалась, используя своё влияние и влияние мужа, а, добившись цели, успокаивала труппу, что со следующего сезона перейдёт в правильную возрастную категорию. И так из года в год. А сейчас она плакала, растирая косметику по лицу, испытывая и одиночество, и страх, и усталость от бесполезной гонки за молодостью и счастьем.
Ксюха собиралась удивиться, со свойственным ей сарказмом, но неподдельная грусть, раскрасившая щёки матери чёрными штрихами, погасила запал, оставив девушку стоять в нерешительности. Что дальше? Уйдёшь к себе – обидишь мать; потянешь из себя слова утешения – сфальшивишь, для этого надо сопереживать, или получится как в сериалах; а для жалости и иных сентиментальных чувств, не выражаемых словами, требуется особый эмоциональный настрой, да и непонятно, отчего она расплакалась:
«Ведь всё хорошо, все живы, здоровы, в доме достаток, все всех любят», – Ксюха вздрогнула.
Ей стало неприятно от наглой лжи самой себе, неприятно потому, что сама она давно не испытывала ничего глубокого к матери – Ксюха ошибается, она в эмоциональной ловушке. Много раньше, будучи несмышлёным ребёнком, Ксюха знала точно, что обожает мать, чему были простые и точные ориентиры – зависть подружек и привилегированное положение в местной «песочнице» – как же, дочь артистки. Потом это стало нормой, особенно после перевода из обычной школы в мажорную, где удивляться приходилось самой, это потребовало нового наполнения образа, наполнения чувствами, но актриса оставалось той же актрисой, много работающей и сильно устающей, что сводило общение к минимуму, а для ребёнка – чувства без общения непостижимы, так же как общение без чувств – пустой звук. Знакомая картина – ни отчуждения, ни отдаления, дни, похожие друг на друга, привычные вопросы, бесцветные ответы, праздники как будни, а будни и того противней. При чём здесь чувства? Собственно ни при чём, принятый уклад жизни (проще – быт) не представляет для них никакой угрозы, слишком уж различны эти категории, но данная различность весьма удобна для оправдания своей нелюбви в угоду разбушевавшемуся самолюбию. Ксюха попала в число этих несчастных людей. Временно или навсегда?
Девушка сидела на тёплом полу, рядом с матерью (когда успела?), обхватив руками ноги, согнутые в коленях и подпирающие подбородок, ей не хотелось ничего говорить, не хотелось ничего делать и никуда идти, просто сидеть и, блаженно улыбаясь, скользить взглядом по гладкой пустой стене, радуясь тому, что не за что зацепиться и ничто не зовёт вернуться в настоящее. Прошёл час или половина от этого. Мать, очнулась первой:
– Дочь, от тебя пахнет.
– И это меня не удивляет, – Ксюха провела рукой по своим волосам и вздохнула.
– Я надеюсь, мне не о чем беспокоиться?
– Пока не о чем.
– А в смысле алкоголя?



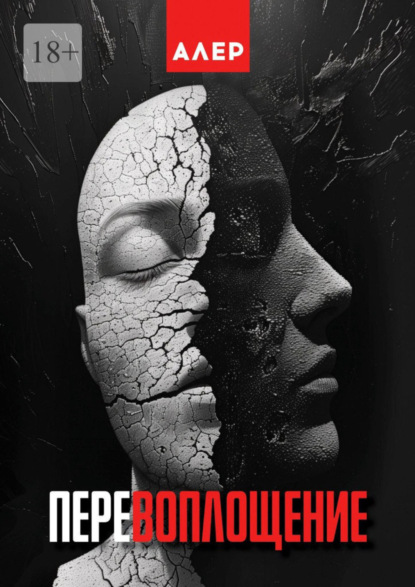




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0