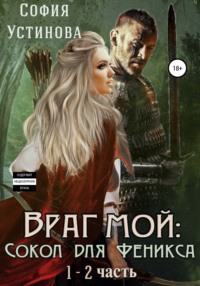
Враг мой: Сокол для Феникса
Но в данный момент князя интересовал лишь младший отпрыск. С того дня, как вытерпел порку, он ни разу при Радомире не обращался к Богдану «отец», но и к самому отцу тоже. Упрямо молчал, угрюмо зыркал из-под бровей.
В пору разгневаться на младшего княжича и проучить шибче, но нет, князь уже вразумил, что мальца силой не приклонить. Тут другое надобно. Подход иной… Прав Богдан – дикий отпрыск.
Сердце родительское кровило, душа оттаивала гордостью, рвалась к мальчонке. И с каждым днём всё больше и больше.
Потому не торопился князь. Ждал и изучал сына своего, как вновь обретённого. Знал, что зарядку со стрельбой из лука Твердомир делал каждое утро. Независимо от погоды, времени года: всегда полуголым, босоногим, под снегом, дождём, в восходящем рассвете, несмотря на туман, лениво ползущий вслед за уходящей ночью или мороз, крепко кусающий за щёки.
И Тверд позволял себе лишь один выстрел, дабы исключить соблазн исправить ошибку. Умение полностью собраться вкладывал в одну попытку, и князь болел за сына – затаивался в своих покоях у окна, держа за младшего княжича кулаки.
Да, Радомир любил Тверда! Любил даже крепче старших сыновей. Любил, потому что младший духом напоминал самого князя, несмотря на хрупкость тела и внешнее отличие.
А лицом-то княжич как раз много взял от Зорицы, матушки своей, жены Радомира, которую до сих пор нежно вспоминал. Даже не так… Не просто скучал и тосковал князь, а до сих пор любил, образ её в сердце хранил.
Потому и злился всё сильнее. Любовь сыновья, по праву крови отцу предназначенная, сейчас всецело отдавалась Богдану. Уважение, почтение… Только наставника младший княжич слушал беспрекословно. Выполнял его поручения и понимал наставника с одного взгляда и жеста. Лишь ему Тверд что-то увлечённо рассказывал, заглядывая в тёмные прорези глаз. А Богдан усмехался, немногословно поддакивая, кивая или качая головой.
Так что всё пуще ревность снедала разумное в Радомире.
Жажда завладеть любовью сына становилась слепее и отчаянней.
***
– Богдан, что ж ты сына моего в одиночку махать мечом заставляешь? – Радомир не выдержал очередного боя с тенью Тверда. – Неужто боишься княжью кровь пролить? – ухмыльнулся в усы, бороду почесал задумчиво. – Малец проворен, ловок, – князь тщательно слова подбирал, стараясь младшего княжича хоть немного впечатлить, мол, видит отец и уже выше ценит, чем наставник. Да и хотелось собой блеснуть. Главный телохранитель во всём хорош – как воин, нет ни одного вида оружия, коим бы он не управлялся лихо, но меч… Меч всё же оружие Русичей, а не дикого узкоглазого народа с востока. Потому и верил князь, что в этом ратном деле он мастеровитей будет Богдана. И есть, чему мальца научить. Какой урок преподать.
– Владение мечом – требует постоянного совершенствования. И нет ему предела, – умничал хмуро Богдан, продолжая натачивать свои ножи, да на Тверда поглядывать. – А крови мы не боимся…
– Мы? – сощурился Радомир недобро.
– Вы теперь одно целое?
– Нет, княже, прости, – виновато голову склонил главный телохранитель, – Тверд сам вправе решать, готов он к дружескому поединку, али нет.
Такой ответ ещё большим злом князя пробрал. Друг понимал, что неладное творилось с ним, и готов был услужливостью до беды не довести. Но Радомир настроился уже во что бы то ни стало завладеть расположением сына. И если для этого придётся ему преподать урок битвы на мечах – сделает!
Князь вперил взгляд в сына. Тверд ответил не менее пристальным и мрачным. А когда серость глаз сделалась пугающе чёрной, Радомир кивнул:
– Готов к моему уроку?
Младший княжич не отвёл взора, лишь коротко кивнул.
Князь ступил к стене с тренировочным оружием и выбрал самый тяжёлый и крупный меч.
Отец поигрывал мечом перед сыном, будто хотел похвастаться – я вот так могу, а ты?
– Ну что же ты? – криво улыбнулся Радомир, прицельным взглядом не отпуская сына, при этом проверяя шагами умение держать противника на расстоянии. – Не боись! – шире растянулись губы в улыбке. – Не убью. Глянуть хочу, чему тебя прохвост выучить успел. – Нападай первым, – благосклонно дал фору. – Да наперёд второй меч возьми. Только не игрушечный, – насмешливо хохотнул, – а настоящий. Негоже воям лишь деревяшками баловаться.
Во-о-от, теперь сын чуть взгляд сменил. Не то чтобы уважение мелькнуло, но с недоверием и немым вопросом «можно?». Единственное, что покоробило, не Радомиру взгляд предназначался, а Богдану.
– Бери, бери, – зло накатывало сильнее. Чего не хватало, чтобы сын через голову князя к охраннику обращался за тем, что отец дозволил. – До первой крови… – И сам нож из голенища сапога достал. Подмигнул младшему княжичу, мол, видишь, не шучу.
Тверд и глазом не моргнул – со спокойствием, от которого по коже Радомира неприятные мурашки взметнулись, да холодок по спине скользнул, принял из рук наставника нож.
Чуть взвесил на ладони, перехватил на свой манер. Прокрутил оба оружия, переступил с ноги на ногу… да незнакомый танец затеял, приведя князя в изумление. Покружил чуток, а потом заставил собраться и вступить в серьёзный бой.
После нескольких тщетных попыток зацепить противника хоть кончиком оружия, князь осерчало скрипнул зубами – задача была сложной, ведь малец – гибок и проворен. А ту и зевак собралось столько, что уже стыдно за собственное бессилие становилось. Да и смеха страшился… Не подобало князю посмешищем пред людом честным быть.
Потому нападал всё опасней и коварней, но Тверд юрко уходил от меча, ловко избегал ножа – был везде и нигде, закручивая князя, запутывая и не позволяя дотянуться до себя.
А толпа шепталась всё пущей. Смешки разлетались…
– Как змий проворен! – шикнул князь, зло содрав с себя плащ и отбросив прочь. Уже не раз ему ткань мешала. Не думал, что так сложно будет с младшим умениями мериться. Но признавать талант сына не спешил, ведь тогда и телохранителю своему, и воеводе, Степаку, пришлось бы хвалебную петь.
Но и это не помогло – не облегчило задачи.
Небольшой деревянный меч и острый нож всё так же быстро и проворно мелькали перед глазами князя, приводя его в бешенство. Вроде и муха жужжит, а никак не поймаешь!!!
Уж зеваки не стеснялись похохатывать. Пальцем тыкать…
– Хватит! – князь махом прервал поединок, с раздражением разглядывая сына, который даже не запыхался. – Молодец! Выбрал верную тактику, но так врага не убить. Измотаешь и его, и себя! – жадно хватанул воздуха полной грудью. Тверд ухмыльнулся, но промолчал, а воевода виновато откашлялся:
– Не серчай, княже, но ты мёртв ровно с тех пор, как плащ свой скинул!
Что? Вот так… обухом по голове.
Теперь князь Минской остро видел насмешливые взгляды толпы, даже слегка сочувствующие. Задумчиво-пронзительный Богдана… А когда Степак как бы невзначай указал на спину князя, Радомир потянул рубашку на себя и едва сдержал крепкое словцо – она была рассечена на две части… И на ткани чётко алело свежее пятно. Когда княжич успел рубаху черкануть, да кровь отцу пустить?
– Хвалю! – Радомир отбросил рубаху в сторону, – Сдаётся мне, ты растишь лучшего война, которого бы знала земля наша.
– Стараюсь, княже, – благодарно кивнул Богдан, не глядя на Тверда, но явно гордостью преисполненный.
– Хотелось бы верить, что меч его… мне в спину не воткнётся, – задумчиво добавил князь. – Или для того и готовишь? – с подозрением и колючим укором. – Вознамерились от меня избавиться, зная, что к вам обоим сердцем киплю? – несколько секунд гробового молчания, и в повисшей тишине широким шагом князь покинул ристалище.
– Хороший удар! – несмотря на слова Радомира, похвалил младшего княжича наставник. – Но несколько ошибок я высмотрел… – приобняв Тверда за плечи, повёл в казарму.
Князь Минской ворвался в свою комнату, надеясь на уединение. Но настырный гридень, Ляхич, который уже успел лекарку сыскать в хороминах, даже под угрозой порки не желал уходить.
Князь вытерпел перевязку, продолжая ворчать, что рана – смешная. Но Никанора упрямо наносила вонючую мазь, наговором подкрепляя, а потом чистой тряпицей обмотала, будто не царапина, а боевое рассечение в полспины.
Только закончила, князь тотчас велел комнату освободить. Пока Ляхич упирался, мол, в уголке посижу, вдруг плохо станет… Вытолкал парня прочь, и дверью перед носом его длинным хлопнул.
Точно раненый зверь ходил из угла в угол – всё не мог в толк взять, как сын сумел бывалого воина раскачать, да незаметно рубаху распороть. Как?
Его победил младший княжич! Его?! Старого воина, вот так… запросто! Взял и разделал под орех!!!
И пусть злости истинной не испытывал, покуда с Твердом мечами махался, но ведь… и спуску не давал.
Да, что не отымешь, одарён сын – как никто. Отмечен богами… с рождения. А то, что такой воин оказался в теле хрупкого человечка – либо насмешка природы, либо испытание судьбы…
Упёрся Радомир ручищами в раму окна, да уставился на площадку, где уже с мечами крутились дружинные. Матерые, крепкие ловко оружием управлялись. Звон и лязг разлетались по всей площади, а коли сталкивались воины, то казалось, земля вздрагивала от мощи мужей.
И тут гордость затопила отцовскую душу – Твердомир – плоть и кровь княжья. Как аспид вертлявый и пронырливый. Скорости его любой позавидовал бы. А что от Зорицы много в лике, так то и хорошо… Кто-то должен быть другим!
Дума о жене погибшей опять сжала сердце в тиски стальные. Тоска скрутила горло, кровь забурлила да привычно в пах устремилась.
И голос женский, словно окутывал чарами: «Жениться тебе надобно, княже!». Радомир глазами обшарил комнату свою – нет никого, а голос лился ровно и убаюкивающе: «Жениться пора! Пока в силе…».
Сморгнул князь, головой помотал – вроде пропал голос. Но мысль осела, да крепла.
И правда бы жениться! С женой оно всё спокойнее. И расширить территории не мешало бы! Сыновей много. Всем земли надобны, а Тверду самые богатые достанутся…
И сразу перед глазами князя всплыла нежная девичья фигурка, потупленные синие глаза, толстая коса до пояса с талией осиной.
Мирослава! Было что-то в девице рода Добродского такого, что цепляло взор. Что заставляло вспыхнуть давно позабытое желание любить. Что пробуждало чувства от спячки.
Глава 4
11 лет назад
История Любавы
Род Святояра Добродского: княжна Любава, княжна Мирослава
– Да сколько можно? – нянька Глафира с возмущением смотрела на младшую дочь князя, которую за ухо привел конюх. Её громкий голос привлёк внимание всех, кто был во дворе. Представление уже не казалось челяди чем-то интересным, повторялось изо дня в день, и все привыкли, что девчонке влетает то от нянек, то от доведённого до отчаяния конюха. – Управы на тебя нет! – негодующе всплеснула руками, при этом её беззаветная любовь к княжне не оспаривалась.
– Эта чертовка вновь каталась на Буяне, и чуть не загоняла его до смерти! – ябедничал Алехно. Вредный и противный. Всегда доносил на Любаву, ежели ловил. Глупый, что с младшего конюха взять?
– На ком ещё можно мчаться наравне с ветром, если не на Буяне? – пискнула, оправдываясь, Любава. – Он самый лучший скакун батюшки!
– Он не для маленьких девочек! – продолжал гнуть свою линию конюх. – Тем более, это Буян! Он сильный, могучий конь! У него и кличка неспроста такая! – едва не подвывал от негодования. – Он для князя, а не чтобы от неча делать его загонять!
– И ничего не загоняла! – взбрыкнула Любава, но Алехно крепко держал за её ухо и потому боль усилилась. Ухо горело и распухало на глазах: младший конюх всё сильнее сжимал нежную кожу, не замечая, что попутно тянет длинный волос. – Ау, – проскулила княжна и упрямо добавила: – Только пену увидала, сразу в холодной реке помыла. И обратно на нём не ехала… На поводе притащила!
– Она его уморит, а меня на дыбу! – гневно пожаловался Алехно, толчком выпуская ухо Любавы.
– Там тебе и место! – обиженно показала язык княжна, но только младший конюх сделал к ней злобный шаг, юркнула за добротную няньку Глафиру. Парень досадливо зыркнул на княжну последний раз и раздосадовано взмахнул рукой:
– А ну тебя!
– Любавушка, – только конюх размашистым шагом скрылся в конюшне, запричитала нянька, сложив ладошки замком на пышной груди, – ведь ты же девочка!
Любаве несколько раз на дню напоминали о том, что девочка. Что младшая княжна. Она уже устала слышать одно и то же. Кто ж виновен, что и батюшка, и матушка грезили о наследнике, а родилась ОНА! Любава! Вторая дочь!
Князь часто винился, что «долгожданного сына» начал обучать мужским премудростям еще с утроба! Рассказывал о дальних землях, поглаживая огромный живот княгини, в котором кровь из носу богатырь растёт! О походах военных. О лихих скакунах, об оружии…
Разве ж виновата Любава, что вот такой уродилась?
Не богатырь, к сожалению. Не наследник!
Но зато не сидится на месте. Не вышивается. Не интересно песни распевать, да танцевать учиться.
Свобода милее. Ветер в ушах. Простор для души…
Эх!
Зачем постоянно ставить в пример старшую княжну Мирославу, которая росла тихой, послушной, молчаливой?
Нельзя сравнивать воду и огонь! Солнце и снег!
Любава – взрывная, подвижная, жадная до всего, что окружало.
Мира часами могла напевать над вышиванием, как и положено будущей жене великого князя.
Любава с не меньшим упорством скакать на коне, да по деревьям ползала.
Мирослава спокойно и покладисто выслушивала нравоучения старших.
Любава протестовала и спорила, порой ставила в тупик совершенно не детскими мыслями и рассуждениями.
Мира свыклась с мыслью, что совсем скоро наступит великий час, и она покинет отчий дом, родное княжество, переехав в дом супруга будущего.
Любава била копытом, мол, не выйдет замуж абы как и за кого укажут! Насилу мил не будешь! И не будет! Коль мужику позволено любить, и она пойдёт за того, кого полюбит. И никак иначе!
Старшая лишь мотала головой, устав от вечных проблем с младшей. А Младшая ей моськи корчила: «Я не ты!»
По чести, сёстры меж собой особо не общалась. Во-первых, старшая уже была девицей на выданье и совсем не разделяла увлечений младшей. Во-вторых, она была занудой! И зачастую, при редких встречах монотонно читала нотации, как должно себя вести воспитанной княжне, а не взбалмошной крестьянке, по которой розги плачут. Что надобно надевать дочери князя, дабы выглядеть достойно, а не под стать анчутке дикой.
И в особенности любила напоминать, когда дозволено открывать рот.
Любаве было по нраву другое. Босиком бегать по горячей пыли и не думать, как высоко задран подол рубахи. Хотелось утром с кровати соскочить и наперегонки с остальной детворой мчаться на речку! А потом, после стужи воды, жадно пить парное молоко из глиняной кружки с треснутым краем.
Желала! Желала и делала!
Батюшка часто прощал мелкие проказы, больше для виду грозя пальцем, а иногда делая вид, что сердит:
– Любушка, – выговаривал громовым голосом, – ты же дочь князя, а не челядины! – а в глазах любовь лучилась, что не скрыть никаким гневом. И тут же старой кормилице: – Авдотья! Как же так?! Княжна, а растрёпанная и чумазая?.. Ежели не по силам с ребёнком управиться, то кой от вас прок?
– Княже, – тотчас принималась хлюпать носом Авдотья, да краем головного платка слёзы утирать с пухлого лица, – разве ж за ней угонишься? Почище сорванца какого!– досадливо головой качала. – Чуть свет – уже на улице! То коня ей подавай! То меч! А он, поди, тяжёлый и острый… А она, – задыхалась от негодования кормилица, – тянет, и всё тут! А ежели на ногу уронит, то дружинника задирает. Ремня бы ей хорошего!.. А то ведь – ни в чем отказа не знает! Балуете вы её, балуете! – не переставая причитать. – Что ж ждать-то ещё?! – бабскими слезами заливаясь. – Без матери воспитывается, сиротинкой растёт и никто ей не указ!.. И примера с сестры брать не желает!
Князь хмурил кустистые брови, растерянно чесал затылок, соглашаясь, что женской руки недоставало младшей дочери, и ничего лучше не придумывал, как усадить Любаву за пяльцы.
Сущее наказание!
Самое что ни на есть!
Ничего страшнее не знавала Любава.
Сидеть, как приколоченная, таращиться на ткань.
То в нитках, запутаешься! То с иглами сражаешься. Они вредные! Либо застревают, либо выскальзывают из пальцев, либо не туда попадают, либо нитку не хотят в дырку пускать. У-у-у-у!!!
Порой казалось, лучше бы розгами отходили – потерпела чуток, и свободна! А тут целый день от скуки умираешь! Над вышивкой пыхти, слушай сплетни боярынь и с тоской поглядывай на пробегающую под окнами счастливую детвору.
Не то чтобы Любава была неучем и неумехой. Она добросовестно училась вышивать, прясть, да шить, о чём говорили ее пальчики, исколотые иголкой. Только усидчивости в столь тонком и нудном деле непоседе и сорвиголове не хватало. Стежки получались кривыми и безалаберными, нитки переплетались, рисунок превращался в нечто уродливое и непонятное.
Вторая няня, Глафира, часто вздыхала и качала головой:
– Как же можно быть такой криворукой? Боги её берегите! Кому ж достанется такая плохая хозяйка? Кто возьмёт-то…
Но Любава не расстраивалась. Ведь в этом мире столько интересных вещей, помимо вышивания, шитья и штопки.
– Нянь, – поджимала губы от досады, когда очередной отрез был загублен нерадивым узором княжны, – да кому нужно это шитьё?
– Ба, – всплескивала руками Глафира, вытаращиваясь на подопечную, словно кикимору увидала. – Мужу!
– Замуж??? – тотчас хохотала Любава. – Э-э-э, эт когда ещё! – отмахивалась небрежно. – К тому времени я научусь не только строить прислугу, да вести хозяйство. Я и петь научусь, и танцевать, и ещё много-много чего!
Особенно княжне хотелось научиться играть или на свирели или на гуслях. Жаль, что это было сугубо мужское дело. И даже наберись она наглости и овладей таким умением – её тонкая игра точно была бы осуждена не только семьей, но и всем миром.
10 лет назад
Любава Добродская
Любава тяжко вздохнула и, подперев голову рукой, с тоской уставилась в окно. Крестьянская детвора вовсю играла в лапту, веселясь и радуясь каждому точному удару. А ей приходилось сидеть в тереме, отбывая очередное наказание и умирать от скуки.
Вот же непруха!!!
Княжна засмотрелась на высокого стройного отрока – сына кузнеца. Он как раз помахивал битой, готовясь отразить бросок.
Подающий подбросил войлочной мяч, и Иванко, закусив губу, попал точно по нему.
Раздались восторженные крики. Иванко отбросил биту и скрылся с глаз, помчавшись через весь двор, к противоположному краю поля.
Любава снова горестно вздохнула.
В команде с Иванко играть хотели все. Он был лучшим игроком. Для своего возраста, – а он уже находился в середине возраста отрока, – Иванко был сильным, высоким, ловким. Увлекал своими идеями, заряжал уверенностью в том, что всё получится.
Младшая княжна любовалась им издали. Хотя бы так! Каким бы он ни был красавцем и героем… девичьих грёз, он, прежде всего, сын кузнеца! Да и старше её на четыре весны!!! А стало быть, никогда не обратит внимания на семилетку, с вечно сбитыми коленками, поцарапанными руками и растрёпанными волосами.
– Я же девочка, – досадливо пробурчала Любава, напоминая себе горькую истину. Смиренно склонилась над вышивкой и погрузилась в мечты о том, как Иванко когда-нибудь пригласит её на свидание.
Ах-аха! Как Казимир Всеволодович её страшную сестру, которая, глупо полагала, что Любава спит. Но младшая бдила. Ещё бы, как уснуть, когда под окнами кто-то шебуршит и шепчет? А когда прислушалась, оказалось, Казимир – небогатый княжич каких-то дальних земель. Он как увидал Мирославу, так голову от любви и потерял. Сестра из себя неприступность строила, младшей про воспитание оскомину уже набила, а сама по ночам вылезала в окно, и нежилась в крепких объятиях захудалого княжича.
И ладно бы, он женихом её значился, так нет… Он даже с батюшкой словом не перемолвился насчёт свадьбы!
И то, Любава знать знала, слышать слышала о тайных встречах, да никому не выдавала секрета.
Любовь!..
Этому чувству завидовала и мечтала когда-нибудь точно так же, как сестра… без оглядки влюбиться в своего «Казимира»! Только пусть он будет «Иванко!»
Всё же – старый он… Казимир Всеволодович. И страшный… И что сестра в нём нашла? Эх, глупая.
Хотя Мирославе уже пятнадцать минуло, а это уже ого-го – сколько для девицы на выданье. Того и глядишь, старой девой останется! Так что, кто его ведал, какого это быть почти старой. Поди, в такой дремучести и не на такую страхолюдину, как Казимир Всеволодович поведёшься.
Ему подавно больше. Сколько точно – не сказать, но взгляд тёмных глаз, единожды брошенный в её сторону, запомнила надолго. Столько в нём было презрения, превосходства и ненависти!..
Мира же влюбилась в Казимира сразу, как только встретила на празднике Спожинки. В этот год он был особенно многолюден, покуда до княжества Святояра добрались княжичи с других земель и женихи с ближайших.
Увидала и заболела им.
И пока народ дожинки, обжимки отмечал, Велесу хвалу пел, почитая Его как Отца божьего, за то, что учил праотцов землю пахать, злаки сеять, жать венки на полях страдных и ставить снопы в жилище, – старшая княжна не спускала глаз с высокого незнакомца. Он со скучающим видом сидел поодаль от князя Святояра, да по сторонам поглядывал, думая о чём-то своём.
– Что, по нраву пришёлся? – боярышня Зрослава наклонилась к сестре так близко, что Любава едва слышала, о чём шепчутся. – Вдовец, кстати, – многозначительно. А Мира тотчас разулыбалась, словно он ей уже предложение удачное сделал.
– Хочешь, – продолжала ворковать боярыня, – попрошу князя вас познакомить? Казимир Всеволодович с вашим батюшкой хорошо знакомы.
– Казимир, – точно попробовала на вкус диковинное имя старшая сестра. В глазах таинственный блеск заиграл, румянец на щеках выступил. Любава непонимающе глянула на старика худосочного, опять на Миру и чуть не завопила от недоумения: «Что ты в нём нашла?»
Но благоразумно язык придержала, когда старшая на вопрос боярыни кивнула, пуще прежнего краской заливаясь.
Про Мирославу и так уже поговаривали, что в девках засиделась. Ещё чуть-чуть и «брачок» наружу выплывет. Не то чтобы не было желающих. Приезжали княжичи, да богатые купцы, бояре с разных земель, как только старшей едва двенадцать минуло. Ликом – вышла, статью – не подкачала, нравом – отличалась покладистым.
Но батюшка не спешил расставаться с дочерью, объясняя, что самого лучшего ей желает. На деле он больше за себя переживал. За княжество, земли…
Плохо, некрасиво с его стороны, но князь Святояр не хотел прощаться с главной помощницей. В хозяйстве она уже давно жену заменила и в воспитании младшей сестры помогала…
Потому Любава и рассудила, может счастье сестре будет с этим Казимиром. Батюшка даст благословение…
Мирослава Добродская
Наутро Мирослава стояла перед отцом, опустив глаза, и ужас заполнял её существо. Она так ждала сватов от Казимира, и чуть не упала, когда услышала:
– Сватает тебя князь Радомир, – глухо проворчал отец, не глядя на дочь.
– Но батюшка… – лишь обронила Мира, как Святояр жестом отрезал:
– Будем готовиться к свадьбе! – припечатал, отметая сомнения в его решимости.
Тихие слёзы полились из глаз Мирославы, но престарелый князь остался к ним глух и слеп.
Безотчётно скомкав край понёвы в кулак, она бросилась вон из светлицы, и только оказалась в женской части терема, в комнате, которую делила с сестрой, с размаху упала на кровать и горько разрыдалась.
Любава Добродская
Любава сидела и с недоумением смотрела на кособокую тряпичную куклу. Нет, смущала не неказистость игрушки, за это княжна едва от гордости не распухала – уж какая получилась, зато своими руками! В недоумение Любаву приводило то, что с этим играют девочки!
– Все девочки играют в «дочки-матери», – бурчала под нос, ворочая куклу и так, и сяк, но с какого боку не глядела на игрушку, она милее сердцу не становилась и желания поиграть не пробуждала. – И я должна… научиться, – убеждала себя твёрдо младшая княжна.
Но на очередном заунывном рыдании сестры сбилась с мысли. Встала со скамьи, напрочь забыв об упавшей на пол игрушке, и тихо подошла к сестре.
– Мир, – ласково позвала старшую и коснулась покрытой головы сестры, чтобы хоть немного утешить – уж очень горькими были рыдания.
– Да пошла ты! – истошно завопила Мирослава, своим сумасшедшим видом напугав до полусмерти. – Пошла вон! Достали все! Ненавижу! Ненавижу-у-у, – и Мирослава снова повалилась на кровать, как подкошенная.
А ночью, когда Мира обманчиво думала, что сестра давно спит, вылезла в окно, услыхав тихий свист любимого. Попала в сильные объятия и снова разрыдалась, пряча на груди опухшее от слёз лицо.

