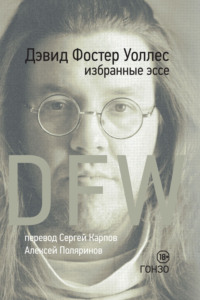
Избранные эссе
Настоящее постструктуралистское свидетельство о смерти здесь – это второй аргумент Барта, и его утверждение – всего лишь инволюция реакции послевоенной «новой критики» в отношении Ричардса и романтиков. «Новые критики», поначалу вполне взвешенно, стремились свергнуть автора, обрушившись на то, что они называли «интенциональным заблуждением». Иногда писатели неверно интерпретируют собственные тексты, а то и вовсе не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле сказали. Порой смысл текста меняется даже в глазах самого писателя. Для «новых критиков», по сути, не важно, что автор пытается сказать; важно лишь то, что говорит текст. Это критическое «низвержение» самой идеи творческого намерения подготовило сцену для постструктуралистского шоу, которое началось спустя пару десятилетий. Деконструктивисты («деконструктивист» и «постструктуралист» – это, кстати, одно и то же: «постструктуралист» – это деконструктивист, который не хочет, чтобы его называли деконструктивистом), открыто следующие Гуссерлю, Брентано и Хайдеггеру в том же смысле, в котором «новые критики» ассимилировали Гегеля, считают споры вокруг права владения смыслами лишь отдельным сражением в большой войне западной философии из-за той идеи, что присутствие и единство онтологически предшествуют значению. По их мнению, в философии есть некое давнее и ложное предположение о том, что если существует высказывание, значит, должно существовать и универсальное, действительное присутствие, которое служит причиной высказывания. Постструктуралисты критикуют идею, которая кажется им постплатоническим предубеждением – когда присутствие ставится выше отсутствия, а речь – выше письма. Мы склонны больше верить речи, чем тексту, ввиду ее насущности: говорящий стоит прямо перед нами, и мы можем схватить его за грудки, заглянуть в глаза и понять, что конкретно он имеет в виду. Но причина, почему постструктуралисты вообще пришли на территорию литературы, в том, что для них именно текст, а не речь гораздо ближе к метафизике истинного выражения. Для Барта, Деррида и Фуко текст лучше речи, потому что он повторяем; он повторяем, потому что абстрактен; и он абстрактен, потому что он – функция не присутствия, но отсутствия: читатель отсутствует, когда писатель пишет, и писатель отсутствует, когда читатель читает.
Для деконструктивиста, стало быть, авторские обстоятельства и намерения – действительно часть «контекста» текста, но этот контекст не накладывает никаких реальных ограничений на смысл текста, потому что смысл в языке требует скорее разработки отсутствия, чем присутствия, и включает в себя не добавление, а стирание сознательности. Все потому, что эти ребята – Деррида вслед за Хайдеггером, и Барт вслед за Малларме, и Фуко бог знает вслед за кем еще – буквально рассматривают язык не как орудие, а как среду. Писатель не владеет языком, он в него погружен. Язык говорит нами, текст – пишет, и т. д. Хикс почти не упоминает ни «Поэзию. Язык. Мысль» Хайдеггера, ни «Границы философии» Деррида[81], где все это изложено максимально понятно, но он достаточно много цитирует Барта: «Письмо есть… деятельность…, позволяющая добиться того, что уже не „я“, а сам язык действует», – чтобы вы поняли, что идея об авторе как владельце текста не только поверхностна, но и противоречива, и Фуко: «Письмо [в наши дни] освободилось от темы выражения; [письмо] есть игра знаков, упорядоченная не столько своим означаемым содержанием, сколько самой природой означающего»[82], – чтобы вы увидели, что исчезает даже Священный Текст «новой критики» как унитарной основы значения и ценности. Для учителей Хикса попытаться приписать смысл написанного тексту или человеку-автору – это как попытаться сшить свое собственное тело, сшить собственные иголки. У Хикса есть даже еще более впечатляющий портновский образ: «Раньше текст был тканью, которую читатель распускал; если читатель распускал до конца, встречал автора, держащего другой конец. Но Барт превращает текст в саван, и никто, даже труп, не держит другой его конец».
Хикс и сам хороший ткач, к тексту не придерешься. Первая часть – критический обзор некоторых основополагающих мнений об авторских функциях. И там не только мысли Гоббса и Фрая о том, что такое автор, там еще и противопоставление Фуко и Нехамаса в вопросе, как узнать, что такое автор, и противопоставление Барта и Уильяма Гэсса в вопросе, стоит ли вообще пытаться найти автора. А кроме того, краткие критические конспекты Деррида, Куллера, Стекера, Бута и Берка. Анализ у Хикса не совсем исчерпывающий: Хайдеггер и Гегель едва упомянуты, Гуссерль (оказавший огромное влияние на Деррида) отсутствует, как и другие значимые фигуры современной философии – Стэнли Кавелл (чья книга «Должны ли мы иметь в виду то, что говорим?» [ «Must We Mean What We Say?»] для темы Хикса важна не меньше, чем «Риторика литературы» [ «Rhetoric of Fiction»] Бута), Поль де Ман, Эдвард Саид и Гаятри Спивак. А анализ тех игроков, которых Хикс упоминает, страдает от старательного ковыряния, характерного для всех опубликованных диссертаций, от одержимости каждым тире и запятой с целью максимально точно объяснить, что Хикс имеет в виду и к чему ведет. Из-за утомительных уточнений вроде «три эти утверждения я выделю особенно, отвергнув два из них и согласившись с одним» и микроскопических придирок вроде «ошибка Уимсатта и Бердсли может скрываться за пассивным залогом; ошибка Кейна скрыта за настоящим временем» читатель мечтает о том, чтобы редактор Хикса помог ему избавиться от жестов, которые, похоже, обращены к диссовету, а не к покупателям книги.
Хотя обсессивное внимание Хикса к деталям, наверно, можно оправдать тем фактом, что его работа пытается быть чем-то большим, чем просто собранием взглядов на противоречивую полемику вокруг «смерти автора». Хикс озвучивает собственную теорию авторства, которая, по его утверждению, внесет окончательную ясность и заложит фундамент для более утонченного подхода к литературной критике после деконструктивистского плюмеоцида[83]. Хотя предложенное им решение совсем не похоже на «универсальный растворитель», который он обещает читателю, его работу вполне можно назвать хорошим примером современной спайки между континентальной теорией и аналитической практикой. То, что Хикс пытается выдать за решение, на самом деле комбинация метафизики Деррида, которая отвергает предположения о существовании единого казуального присутствия, и витгенштейновского аналитического метода, считающего актуальные привычки дискурса критерием для определения значения того или иного термина.
В своем кратком изложении современных теорий об авторе Хикс сразу делит все точки зрения на два противоборствующих лагеря. Те, кто против смерти, до сих пор считают автора «источником»/«причиной» текста, а парни «за смерть» считают автора «производной»/«эффектом» текста. Хикс утверждает, что обе стороны спора «выдают… один из аспектов автора за автора как такового». Все стороны слишком упрощают значение термина «автор». Они поступают так потому, что основываются, как это называет Хикс, на «допущении об однородности», упрощенно воспринимают «автора» как «единую сущность или феномен». Если же мы рассмотрим, как термин «автор» действительно используется в критическом дискурсе, сообщает Хикс, нам придется признать, что его истинное значение – это сложное взаимодействие между деятельностью «исторического писателя» (парня с карандашом), источниками влияния и условиями этого писателя, лирическим героем в тексте, самим наличествующим текстом, окружающей текст и обуславливающей его интерпретацию критической атмосферой, интерпретацией текста отдельным читателем и даже убеждениями и поступками, проистекающими из этой интерпретации. Иными словами, вся эта возня после 1968 года была бессмысленна, потому что ее участники не договорились сразу о том, что означает и включает в себя термин «автор», прежде чем заняться погребением либо реанимацией пациента.
Отдельное удовольствие – смотреть, как Хикс использует против деконструктивистов их же инструментарий. Атака Деррида на презумпцию метафизического присутствия в литературном выражении служит калькой, с которой Хикс атакует предположение об однородности, а попытка Хикса «подорвать» и «перевернуть» бинарную оппозицию «автор-как-причина/автор-как-следствие» – это буквально прием из учебника постструктуралистов. Более оригинальной и интересной выглядит попытка Хикса использовать что-то вроде анализа обыденного языка Остина/Витгенштейна по отношению к предикату «автора». Вместо того чтобы присоединиться к своим учителям в метафизической стратосфере, где они обитают, Хикс вполне правдоподобно предлагает нам посмотреть на то, как умные читатели в действительности используют термин «автор» в разных видах критических дискурсов, чтобы понять природу этого зверя, прежде чем доставать лопату или дефибриллятор. Проект, как он его определяет, одновременно разумный и веселый.
Сам анализ автор-ности Хикса намного, намного менее веселый. Для начала, у него катастрофически неровная аргументация. На одном дыхании он посоветует для понимания жизнеспособности определить значение термина, а потом скажет, что точное определение «автора» – это проблема первостепенной важности, потому что хоть сколько-нибудь удовлетворительная теория текста и чтения невозможна, пока не существует четкой теории автора, и тут напрашивается главный вопрос постструктуралистов – нужен ли вообще тексту автор, чтобы существовать и что-то значить? Хикс определенно уверен, что автор тексту необходим, и, таким образом, то, что выдавалось за компромисс между лагерями Похорони-Его и Спаси-Его, на самом деле скрытая апология автора.
Но невероятно барочное определение «автора», к которому Хикс приходит в своей последней главе, «Post Mortem», похоже, совершает то самое убийство, к которому призывал Барт. Разница лишь в том, что там, где Барт просто утверждал, что идея автора бесполезна при решении критических задач, Хикс настолько расширяет значение термина «автор», что тот попросту перестает что-либо значить. В конце концов, имена существительные должны обозначать конкретные вещи. Однако Хикс, заявляя, что «отрицание предположения об однородности хотя и приводит к тому, что исторический писатель не является исключительным локусом значения, но отсюда не следует, что значение не имеет локуса», заканчивает тем, что сохраняет идею «смысл-локус», превращая этот локус в такой бурлящий бульон из запутанных действий, условий и отношений, что, по сути, стирает автора, опустошая означающее знака. В итоге все это напоминает что-то вроде философского уэстморлендизма[84]: чтобы спасти автора, Хикс его уничтожает.
Хотя выводы Хикса не решают поставленную проблему, его попытки выстроить и защитить их создают впечатляющий научный текст. У него редкий дар состыковывать разные стороны вопросов, его сложная теория способна объяснить, почему мы заявляем, что Лука – автор третьего Евангелия, Джефферсон – автор Декларации независимости, Джордж Элиот – автор «Мидлмарч», а Франклин У. Диксон – автор «Братьев Харди в Бухте скелетов». Раздел, посвященный «Шизописанию», – это потрясающее размышление на тему «подразумеваемого автора», пишущего в первом лице, как в «Моей последней герцогине» Браунинга или «Скромном предложении» Свифта, – где предлагается – хотите верьте, хотите нет – по-настоящему внятная теория того, как работает ирония. А остроумные примеры из книги А. Р. Лурии «Человек с разрушенным миром» о пациенте с травмой мозга, который мог писать, но не мог прочесть то, что написал, не только помогают Хиксу оспорить идею о том, что писатель есть главный толкователь собственного труда, – они клевые сами по себе.
Благодаря талантливому применению образов и примеров «Смерть автора: вскрытие» может представлять интерес для поклонников литературы. Проза Хикса часто остроумна и динамична, а его талант приводить конкретные примеры облегчает ту кропотливую академичность, в которую он постоянно скатывается. Не знаю, насколько подкованным должен быть читатель в литературной теории XX века, чтобы понять книгу. Сам Хикс окольными путями дает основной бэкграунд проблемы «смерти автора». Но если читателю некомфортно от жуткого жаргона вроде «концепция écriture поддерживает привилегии автора априори» из Фуко, то его смутит привычка Хикса жонглировать подобными цитатами без особой необходимости. В общем, сложно предсказать, кого, кроме профессиональных критиков и хардкорных теоретиков-задротов, могут заинтересовать эти непроходимые 226 страниц размышлений о том, жив ли автор. Для нас, обывателей, кто интуитивно знает, что писательство – процесс коммуникации между человеческими существами, это все какая-то китайская грамота. Как замечает Уильям (против смерти) Гэсс в «Обитателях слова», критики могут стирать или переопределять автора в анонима по разным техническим, политическим и философским причинам и «эта „анонимность“ может означать самое разное, но чего она точно не может означать – это что книжку никто не писал».
1992
E Unibus Pluram[85]
Телевидение и американская литература
Вести себя естественноПисатели как вид склонны к вуайеризму. Склонны прятаться и подглядывать. Они прирожденные зрители. Они наблюдатели. Они из тех людей в метро, от чьего взгляда у нас почему-то мурашки по коже. Это почти взгляд хищника. Все потому, что для писателя человеческие жизни – это пища. Взгляд писателя на людей – это взгляд зеваки, который притормаживает, проезжая мимо ДТП: они создают себе образ свидетелей.
И в то же время писатели ужасно застенчивы из-за самоосознанности. Посвящая большую часть продуктивного времени внимательному изучению того, какое впечатление люди производят на них, писатели так же проводят очень много времени непродуктивно, нервно гадая, какое впечатление они, писатели, производят на людей. Как люди их воспринимают, как видят их, не торчит ли у них из расстегнутой ширинки кончик рубашки, не остались ли у них на зубах следы помады и не считают ли их окружающие извращенцами и вуайеристами за то, что они постоянно наблюдают.
Как результат – большинство писателей, прирожденные наблюдатели, не любят привлекать к себе внимание. Не любят, когда наблюдают за ними. Из-за исключений – Мейлер, Макинерни – иногда создается впечатление, что беллетристы внимание любят. Но это не так. Те немногие, кто внимание любит, естественно, его получают. Но остальные – наблюдают.
Большинство писателей из тех, кого я знаю, американцы младше сорока. Мне неизвестно, смотрят ли писатели младше сорока телевизор больше, чем другие виды американцев. Если верить статистике, типичная американская семья смотрит телевизор в среднем шесть часов в день. Я не знаю ни одного писателя, живущего в типичной американской семье. Может, разве что Луиза Эрдрич. Честно говоря, никогда не видел типичной американской семьи. Если только по телику.
Вот теперь очевидно, почему американское телевидение для американских писателей потенциально очень полезная штука. Во-первых, телевидение проделывает за нас нашу хищническую работу. В реальной жизни американцы довольно скользкие, многогранные существа, к ним очень сложно подобрать какую-то универсальную отмычку. Но телевидение – подобрало. Телик – это удивительный датчик для типирования. Если мы хотим узнать, что такое «американская нормальность», т. е. что именно американцы хотят считать нормальным, в этом вопросе мы можем верить телевизору. Цель телика – отражать то, что люди хотят видеть. Это зеркало. Не стендалевское зеркало, отражающее голубое небо и грязную лужу. Скорее подсвеченное зеркало в ванной, перед которым подросток рассматривает свои бицепсы и выбирает наилучший ракурс. Это своеобразное окно в невротичное самовосприятие американцев просто бесценно для писателя. И писатели действительно могут верить телевидению. В конце концов, на кону большие деньги; телевидению служат лучшие демографы, которых может предложить социология, и они способны точно определить, что именно представляют из себя американцы 1990-х годов, что они хотят, что смотрят, – какими мы, Аудитория, хотим себя видеть. Телевидение – от начала и до конца – о желании. А в плане литературы желание подобно сахару в человеческой еде.
Вторая причина кажущегося величия телевидения в том, что оно как будто бы ниспослано богом тому виду людей, которые любят смотреть, но ненавидят, когда смотрят на них. Телевизионный экран предоставляет односторонний доступ. Психологический обратный клапан. Мы видим Их; Они не видят нас. Мы можем расслабиться и подглядывать. Уверен, что поэтому телевидение так любят одинокие люди. Добровольные затворники. Все одинокие люди, которых я знаю, смотрят телевизор гораздо больше, чем средние по Америке шесть часов в день. Одинокие, как и писатели, любят одностороннее наблюдение. Одинокие обычно одиноки не из-за каких-то ужасных физических дефектов, телесных запахов или ужасного характера – на самом деле сегодня даже существуют группы поддержки для людей с подобными проблемами. Одинокие скорее одиноки потому, что отказываются нести бремя психологической нагрузки, связанной с нахождением среди людей. У них на людей аллергия. Люди слишком сильно на них давят. Давайте будем звать среднего одинокого американца Офисным Джо. Офисный Джо боится и ненавидит чувство неловкости и самоосознанности, настигающее его только в обществе других человеческих существ, которые смотрят на него и чья жесткая человеческая социальная щетина причиняет ему боль. Офисный Джо боится того, что о нем могут подумать наблюдатели. Он отказывается играть в этот невероятно нервирующий американский покер видимости.
Но дома, наедине с собой, одинокие люди все еще жаждут зрелищ и событий, жаждут общества. Поэтому – телик. Джо может наблюдать за Ними сквозь экран; Они же Джо видеть не могут. Это почти как вуайеризм. Я знаю одиноких людей, которые воспринимают телевидение как настоящую deus ex machina для вуайеристов. И критика, особенно яростная критика, не столько нацеленная на каналы, рекламщиков и аудиторию, сколько бьющая по ним из всех стволов, связана с обвинениями в том, что телевидение превратило нас всех в нацию потных вуайеристов с открытыми ртами. Эти обвинения неверны, но неверны по весьма интересным причинам.
Классический вуайеризм – это наблюдение исподтишка, т. е. подсматривание за людьми, которые не знают, что на них смотрят, пока они ведут свою маленькую, мирскую, но эротически заряженную частную жизнь. Довольно интересно, что в большинстве своем необходимым посредником для классического вуайеризма является стекло в рамке – окно, телескоп и т. д. Возможно, именно эта аналогия со стеклом и делает телевидение таким притягательным удовольствием. И все же просмотр телевизора отличается от подглядывания. Потому что люди, на которых мы смотрим сквозь стекло экрана, вполне осознают, что за ними кто-то наблюдает. Причем наблюдает огромное количество «кого-то». На самом деле людям в телевизоре абсолютно точно известно, что благодаря гигантской толпе вуайеристов они и разыгрывают на экране отнюдь не мирскую жизнь. Телевидение нельзя считать чистым вуайеризмом, потому что телевидение – это перформанс, зрелище, по определению требующее зрителей. Мы все – отнюдь не вуайеристы. Мы просто наблюдатели. Мы – Аудитория, мегаметрическое множество, хотя чаще всего мы смотрим в одиночестве: E Unibus Pluram[86].
Одна из причин, почему писатели при личном общении кажутся жутковатыми людьми, в том, что по призванию они действительно вуайеристы. Они нуждаются в прямом визуальном воровстве, в наблюдении за кем-то, кто не успел прикрыться специальной улучшенной маской самого себя. При истинном наблюдении иллюзия есть только у наблюдаемого, который не знает, что излучает образы и впечатления. Но сегодня проблема писателей моложе сорока, пользующихся телевизором как заменой для наблюдений, заключается в том, что телевизионный «вуайеризм» – это целая роскошная оргия иллюзий для псевдошпионов. Иллюзия-1 – что мы вообще вуайеристы: потому что «вуайерируемые» за экраном лишь притворяются, будто им неизвестно о нашем присутствии. Они прекрасно знают, что мы есть. О том, что мы там, прекрасно помнят еще и те, кто находится за вторым слоем стекла, а именно за объективами камер и мониторами, с чьей помощью техники и постановщики со всей своей изобретательностью швыряются в нас визуальными образами. Мы не крадем то, что видим на экране; мы видим то, что нам предлагают, – это иллюзия-2. И – иллюзия-3 – люди, которых мы видим за экраном в рамке, ведут себя совсем не так, как повели бы, если бы не знали о существовании Аудитории. Т. е. то, что молодые писатели считают источником информации о реальности для дальнейшего превращения в прозу, на самом деле уже собрано из вымышленных персонажей и в высшей степени формализованных нарративов. Иллюзия-4: на самом деле мы даже не видим настоящих «персонажей»: это не майор Фрэнк Бернс[87], жалкий самодовольный мудень из Форт-Уэйна, штат Индиана, – это Ларри Линвилль из города Охай, штат Калифорния, актер достаточно стоического характера, чтобы выдержать потоки из тысяч писем (которые ему до сих пор шлют, даже при синдикации) от псевдовуайеристов, ругающих его за то, что он мудень из Индианы. И потом – 5-я иллюзия – те, за кем мы следим, конечно, не актеры, они даже не люди: они – электромагнитные аналоговые волны, потоки ионов и химические реакции с заднего экрана, фосфены, летящие с точечной сетки, не более живые, чем импрессионистские комментарии Жоржа Сёра на иллюзию восприятия. Господи боже, и 6-я: эти точки исходят из нашей мебели, на самом деле мы наблюдаем за своей мебелью, а наши кресла, лампы и корешки книг остаются видимы, но незамечаемы, пока мы пялимся в рамку телевизора и наблюдаем за «Кореей», или попадаем в прямом эфире в «Иерусалим», или рассматриваем более роскошные стулья или более крутые корешки в «доме» Хакстейбла[88] как иллюзорные намеки на то, что перед нами интерьер дома, мембрану которого мы только что (коварно, незаметно) прорвали, – иллюзии-7, -8 и далее до бесконечности.
И не сказать, что нам неизвестна вся правда об актерах, фосфенах и мебели. Не замечать эту правду – наш выбор. Мы откладываем свое недоверие в сторону. Но такой объем недоверия не так просто ворочать каждый день по шесть часов; иллюзии вуайеризма и эксклюзивного доступа требуют от зрителя серьезного соучастия. Каким же образом мы добровольно соглашаемся на иллюзию о том, что люди в телевизоре не знают о наблюдении, – на фантазию, что мы каким-то образом поднимаемся над чужой приватностью и наблюдаем за естественной человеческой активностью? У того, почему мы так легко проглатываем все эти «нереальности», может быть множество причин, но главная из них в том, что актеры по ту сторону экрана – вне зависимости от степени их таланта – по-настоящему гениально умеют делать вид, будто не знают, что мы на них смотрим. Делать вид, будто не знаешь, что тебя снимают, – это искусство, тут никаких сомнений. Обратите внимание, как ведут себя непрофессионалы, когда на них направляют камеру: зачастую принимаются гримасничать и дергаться или, наоборот, столбенеют от самоосознанности. Даже пиарщики и политики в плане работы на камеру ведут себя как любители. И мы любим смеяться над тем, как деревянно и фальшиво они выглядят на экране. Как неестественно.
Но если вы хоть раз попадали в поле зрения этого пустого круглого стеклянного глаза, вы слишком хорошо знаете, насколько неуверенно он заставляет себя чувствовать. Взмыленный парень в наушниках и с планшетом в руках просит «вести себя естественно», и ваше лицо тут же начинает ерзать по черепу, пока вы стараетесь изобразить, будто не знаете о наблюдении, а это невозможно, потому что «изображать, будто не знаешь о наблюдении» – такой же оксюморон, как и «вести себя естественно». Попробуйте ударить по мячу для гольфа после того, как кто-нибудь спросит, вдыхаете вы или выдыхаете во время замаха, и попробуйте десять секунд не думать о зеленых носорогах, если вам на спор предложат за это щедрую награду, – и вы поймете, насколько это героическая работа – ломать свои разум и тело так, чтобы, в подражание Дэвиду Духовны или Дону Джонсону, вести себя как будто без наблюдения, в то время как за вами наблюдает объектив, воплощающий собой ошеломляющий символ того, что Эмерсон за годы до появления телевидения назвал «взглядом миллионов»[89].
По Эмерсону, только особенный и очень редкий вид человека может выдержать взгляд миллионов. Это ненормальные, живущие в тихом отчаянии трудяги-американцы. Человек, способный выдержать мегавзгляд, – это ходячее имаго, особенный тип трансцендентного получеловека, у которого, цитируя Эмерсона, «в глазах всегда праздник». Эмерсоновский праздник в глазах у актеров телевидения – это обещание отдыха от сомнений в себе. Отдыха от тревоги о том, как тебя воспринимают другие. Полное отсутствие аллергии на взгляды. В этом есть какой-то современный героизм. Что-то пугающее и сильное. И это также, разумеется, актерская игра – сохранять аномальные самоосознание и самоконтроль для того, чтобы предстать перед камерами, объективами и людьми с планшетами. Эта осознанность, которую выдают за неосознанность, и есть настоящая дверь в целую телевизионную комнату зеркальных иллюзий, и для нас, для Аудитории, это одновременно и лекарство, и яд.

