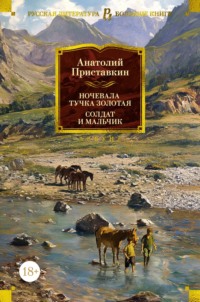
Ночевала тучка золотая. Солдат и мальчик
Сели они в проходящий товарнячок, поехали. Но глупо ехали, почти не скрываясь, и где-то перед Уралом, на перегоне, их забрали.
Посадили в пустующий домик стрелочника, заперли, часового приставили. Они в окошко увидали состав с углем, попросились будто по нужде. Часовой молод был – отпустил. Они за домик – да прямо на тот состав.
Стали осмотрительней. Как железнодорожный узел – слезают на подъезде. Пешочком по кругу обойдут, а у семафора свой состав караулят. Так и Урал проскочили.
Жили впроголодь, понятно. Где что выпросят или украдут. Однажды у проезжего дядьки удалось свистнуть чемодан. Съестного в нем не оказалось, но лежало офицерское нижнее белье, гимнастерка, штаны суконные. Попробовали на себя напялить: все на шесть размеров больше, для маскарада и то не годится.
Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто.
Послали с обмундированием Зверька в деревню, но он не такой лопух был, как эти братья. Продуктов набрал, молока мороженого в кусках, яиц, творога, а за гимнастерку выменял рубаху по себе.
Под Тутаевом, бывшим Романовом, сонных от жратвы их снова прихватили. Бросили до окончательного выяснения в колонию для малолетних. А колония та – под охраной да за колючей проволокой.
«Мы к Тутаеву подходим, видим сразу три угла: сборный пункт, больница рядом да проклятая тюрьма…» Так у них про свою колонию пелось. А вид, надо понимать, открывался подобный со стороны матушки-Волги.
К тому времени, как попался Илья, накопилось в колонии подростков тысячи две. Голодуха. Пока всех просеют, пока разберутся – ноги протянешь.
Однажды сговорились – бежать. Каждый день лошадь с продуктами приезжала; ей ворота открывали. Порешили между собой: как лошаденка станет выезжать, скопом броситься в открытые ворота… И – врассыпную. Кому повезет, тот на свободе будет.
Дождались, приехала дохлая кляча, тухлую рыбу привезла. Из нее баланду варили, рыбкин суп. Разгрузили, открыли ворота – тут колонисты и кинулись с криком… С криком, чтобы самим не страшно было! Вой, пальба!
Зверек сразу сообразил – бросилась ребятня кучей в одну сторону, а он в другую, к Волге.
Май был, вода ледяная, но он с ходу этого не ощутил! Потом лишь понял, что не доплыть; тонуть начал…
Очнулся – лежит на печи, шубой овчинной укрыт.
Высунул голову, поглядел: изба. Дед со старухой сидят у стола, меж собой о нем толкуют. Старуха и говорит: «Давай, старик, сдадим его обратно. Там, в колонии, сказывают, убивцев всяких держат, может, и этот из них?» А старик ей в ответ: «Дура ты, дура старая! На ем написано, что он убивец? А если нет? А если и наш сынок мается где-то, а добрые люди ему откажут в помощи?»
Быстро поправился Илья. Старик ему рассказал, что работает на реке бакенщиком. Углядел на середке: кто-то руками по воде молотит, а уж видно издаля, что тонет… Что за купальщик по весне? – удивился, подплыл, а он, Илья, уж в беспамятстве… Приодели Илью в сыновнее шмотье, кусок сала дали, хлеба. Старик на прощание перекрестил, впотьмах вывел из дома.
– До Ярославля тут недалече, – сказал. – И до Рыбинска близко, но вот как через мост пройти – не знаю. У моста охрана, могут схватить.
Но Зверек опыта за дорогу набрался. Подлез к машинисту, нанялся до Рыбинска уголь кидать.
Пришел в родную деревню. Изба забита, бабки нет. Умерла бабка. Сунулся к соседке, тете Оле, ночь была, а он-то весь в угле. Увидала соседка в окошке его черную физиономию и решила, что черт лезет, такой крик подняла, что вся деревня сбежалась.
День-другой пожил Илья, все советовали ему осесть да жениться. «Пароход плывет по Волге, дым густой, густой, густой… Ох, зачем же мне жениться, погуляю холостой!»
Не сиделось Илье: на военный учет станешь – загребут опять! Пошел он дальше по России чемоданы курочить, «углы отворачивать». Опыт у него уже был. На толкучке, при посадке или с крыши вагона крючком с верхней полки. Мал, да ловок был! Да удачлив!
Но однажды попался: запихнули опять в колонию.
Но теперь-то Зверек, как и всякий зверек, заматерел. Умел, как говорят, фуфло двигать: обманывать то есть.
Стеклá кирпичом натолок и вдохнул покрепче. Можно было бы и сахара толченого, но сахара в ту пору не было. Забило стеклом легкие, пошла горлом кровь. Положили в больничку. А из больнички путь на волю всегда короче. Да, видать, стекла он крупновато сделал, кровь кусками отплевывал еще долго. С полгода.
В Калининской области, близ Осташкова, завербовался на лесозаготовки – дрова пилить. Работа для дураков: пилу на себя да пилу от себя… А во время пилки как песенку приговариваешь: «Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка… Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка…»
Как-то с дружком шел он на работу, увидел пленных фрицев, они по соседству лес валили. Жили почти как вольняшки – на краю деревни, в земляночке.
Так вот, сидят офицеры, сало жрут. Увидели, кричат: «Рус, шнель». Мол, идите сюда, угостим!
Ребята от закуски отказались, но в памяти засело: гады фашистские наше сало жрут да нас же угощают!
На обратном пути не выдержали, решили заглянуть. Зашли в землянку – никого: те по избам да по бабам разбежались. Тут парни еще больше озверели. Это что же получается? Мы в бараках живем, баланду хлебаем, а они в тепле да на печке с нашими бабами!
Все, что было в землянке, забрали, в первую очередь бацилу, то есть мясо, сало, консервы… Муку взяли, около пуда, да не смогли дотащить, так, про запас, у дороги на сосне и повесили. После, мол, заберем.
Пришли в избу к знакомой бабке. Жарь, бабка, мясо, вари, пеки и самогон доставай! Мы праздник победы устраиваем! Сегодня окружили и разгромили немецко-фашистских захватчиков, а это наш трофей военный!
Бабка ничего не поняла, но ужин приготовила.
Наелись, напились, спать завалились.
Ночью Зверек от странного чувства проснулся, будто кто-то несильно зубами его босую ногу трогает… Дернул он ногой, а там как рыкнет! Подскочил: мать честная, овчарка в избе, а рядом военные да участковый милиционер.
Допросили их и бабку допросили. Шмон у нее устроили. Бабка весь трофей, что не успели пожрать, выложила, только муку не отдала. Нет у меня муки… Не было и нет. Никаких я тринадцати килограмм в глаза не видела.
Погрузили Илью с дружком в сани, повезли в город. А повезли через тот самый лес, где они накануне проходили. Илья дорогой и говорит: «Стой, гражданин начальник! Ты муку, кажись, спрашивал? Так вон, вишь, на суку она висит!»
Рассвирепел начальник, решил – чернуха, вранье, значит. А потом и сам увидел, кричит на Илью: «Лезь давай! Как повесил, так и снимай!» А Зверек ему в ответ: «Не… начальник… Я тебе показал, ты спасибо скажи. А мне она теперь долго не понадобится. Мне по твоей милости рыбкин суп хлебать! Так что тебе надо, ты давай и лезь на сосну!»
Слазил начальник. Ничего с ним не случилось! И опять-таки Илье развлечение!
Дали Зверьку год. Он в первый же месяц в глаз порошка от химического карандаша насыпал. Ослеп на полгода. Попал в больничку, что называется, закосил. И на волю…
Усы отрастил, даже на вид стал старше. Решил по новой жить.
Один зэк еще там, в лагере, – подзалетел он туда за то, что бумажники по карманам тырил, словом, щипач, – рассказал, что земли бросовые на Кавказе. Езжай, мол, там дома прямо со скарбом и огородом раздают за бесплатно. Только не спутай, скажи, что из беженцев…
А Зверек-то из каких? Бегал же! Беженец и есть.
Устроился проводником на южном направлении, колонистов к месту доставлял. Без волокиты вселился. Все, как и говорили: дом, огород… И картошка, невесть кем посаженная, в огороде растет, и подсолнух, и кукуруза зреет.
Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. Нюх ему отказал. Хотел честным путем зажить, ан опять в авантюру вляпался. Да какую!
Бежать бы! Да устал он бегать. И – деньги нужны. А тут, глядь, Кузьмёныши подвернулись.
Проснулись братья поздно. Солнце за середину дня перевалило. На сене стало душно.
С трудом, преодолевая вялость, дошли до избы, а уж Илья завтрак приготовил: чай да чуреки, и опять – самогонка.
Кузьмёныши головами замотали: не то что пить – смотреть на нее не могли. При виде бутылки начинало поташнивать.
Медленно отхлебывали чай из железной кружки и исподтишка поглядывали на Илью, который был сегодня особенно суетлив и многословен. Он спросил:
– А вы так и не умылись?.. Ну и правильно. Часто умываться даже вредно. Я в какой-то книжке читал. А можно и после завтрака. Историю про кошку знаете? Нет? Ха! Вот, расскажу. Поймала кошка птичку. Только присела, решила закусить, а птичка-то была сообразительная, говорит: «Как же ты, кошка, не умывшись, станешь меня есть? Нечистоплотно вроде?» Только кошка лапки разняла, а птичка пырх – и улетела. Вот с тех пор кошка и умывается только после еды…
И опять энергичный хозяин все пытался налить им самогона, будто ничего вчера такого и не было.
Или правда ничего и не было? Братья помнили лишь начало, остальное виделось сквозь какую-то муть. Кто-то хвалился, кричал; кто-то куда-то звал…
А может, не кричал, не звал, потому что и во сне приснилось им обоим что-то лихое, с лошадьми… Куда-то скакали на лошадях, и дух захватывало от этой скачки. Трудно было отделить сон от яви, но уж точно: лошадей наяву быть не могло!
Тут вспомнил Колька про вещи и посмотрел в угол, а потом на Сашку. И Сашка о вещах подумал.
Илья перехватил их взгляд, быстро спросил:
– Что? Потеряли что-нибудь? – И как-то странно засмеялся. Усы у него зашевелились.
– А пальто… где? – спросил Колька.
– И шапка? – добавил Сашка. – И эти… ботинки?
– Ах, вы вон о чем! – простодушно удивился Илья. – Ха! Они далеко… Их уже не догонишь!
– Как… не догонишь? – спросил Колька и посмотрел на Сашку, и оба уставились на Илью, который между тем продолжал им улыбаться. Но улыбка стерлась, он озабоченно спросил:
– Вы же мне подарили эти… тряпочки? Я вас вчера правильно понял?
– Подарили? – переспросил Колька, округляя глаза.
– Мы? Подарили? – повторил за ним Сашка.
Оба вытаращились на Илью, будто впервые его видели.
– А вы что? И не помните? Как дарили?
Но Илья и сам увидел, как братья ошарашены.
Встал, подлил им чая. Отломил по куску чурека. Сел, покачал удрученно головой:
– Ха! Вы даете… Ну, может быть, мне напомнить, а? – И так как братья продолжали молчать, он рассказал про вчерашнее, как стал он торговаться, предлагал на выбор картошку, кукурузу или деньги, а Сашка попросил сала. А когда порешили, что даст он им шматок сала да ведро картошки, тот же Сашка вдруг заявил: да бери задарма! Мы завтра снова принесем! Илья, конечно, наотрез отказывался, но тут и Колька присоединился к брату и стал наседать, уговаривать Илью в честь их крепкой дружбы взять это дурацкое барахло и унести, чтобы с глаз долой. А им вроде ничего не стоит снова покурочить этот складик. Где они, как Сашка объяснял, лишь замок в задвижке провернули…
Братья выслушали Илью, уставясь в пол. Они даже друг на друга не смотрели. Ничего такого они вспомнить не могли. Но если Илья про задвижку знает… Тогда… Лихо это они по пьянке добро свое профукали!
Илья предложил еще чайку согреть, но братья заторопились домой.
– Ха! Понимаю! Времечко не ждет! Не ждет! – оживился Илья и встал. И братья встали. – Можете на меня как всегда… Как на своего, – говорил он, выходя вслед за ребятами во двор. – Если свистнете, готов соответствовать! А подарка не возьму больше, так и знайте! Задвижечку отодвигайте, одежу несите, но… За наличные! Ну! По петушкам?
Колька и Сашка неуверенно кивали. Были они подавлены. Торговали – веселились, подсчитали – прослезились!
У самой калитки Колька со вздохом оглянулся и, не глядя Илье в глаза, спросил, голос его прозвучал жалобно:
– Но… Может, нам сала немного… Мы бы взяли.
Сашка промолчал. Он даже отвернулся, чтобы не видеть Колькиного унижения.
Илья уж совсем собрался уходить. Удивился. Переспросил:
– Сала? Вам… Сала? – И сделал паузу, рассматривая в упор братьев. – Так вы, живоглоты, вчерась его подобрали, у меня только голая тряпица с солью осталась!
Братья удрученно молчали. Про сало, кроме того кусочка, что совал им на закус сам Илья, они тоже не помнили.
– С кормежкой вы тово… Вы за четверых хаваете-то! – Илья вздохнул, как неприятно было ему отказывать своим лучшим друзьям. Вдруг он оживился: – Ха! Постой-ка! Посмотрю, а вдруг…
Щедрость из него так и перла. И щедрость, и широта душевная. Не мог он отпустить лучших друзей с пустыми руками!
Он скрылся в доме, вернулся, неся в руках небольшой, с пол-ладони, кусочек сала. Тут же отыскал лопушок, завернул в него. Помедлил, поколебался, сразу видать – последнее отдавал. От сердца отрывал, как говорят!
Он так и сказал, протягивая:
– Ладно уж, в честь дружбы… Сам как-нибудь проживу.
Братья вразнобой сказали: «Спасибо». И пошли.
Илья смотрел им вслед. Вдруг крикнул:
– Эй, живоглоты!
Кузьмёныши оглянулись. Он молча на них смотрел, будто колебался, сказать или не сказать, но вдруг крикнул негромко:
– Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!
13
В колонию не пошли.
Если даже директор, как говорили, что-то там привез и наварят горячей бурды, им все равно не хватит. Опоздали. Еще кому-то подарочек. Правда, не такой жирный.
Только скрылась деревня, свернули они с проселка, покрытого мягкой, горячей пылью, в поле, а за ним, вдоль кустиков, речка Сунжа бежит. Тут по-над берегом, среди зарослей колючей ежевики и дикой маслины с мелкими серебристыми листьями – птицы на нее, как заметил Сашка, никогда не садились, – прилегли на траву.
Говорить не хотелось.
Колька первый нескоро произнес:
– Голова трещит! А у тебя?
Сашка угрюмо отмалчивался.
– И трещит, и гудит… Паровоз, а не голова! Больше пить никогда не буду… Я и не думал, что это так…
Он не договорил, спустился с берега к воде, стал зачерпывать воду руками и плескать на лицо. Потом, сложив руки ковшичком, напился и, прихватив сколько можно воды, хоть капало сквозь пальцы, принес к Сашке и вылил ему на лицо. Плеснул – Сашка даже не отвернулся, а может, и не заметил.
– Ты знаешь, что такое собачник? – спросил он, не открывая глаз. Капли блестели у него на носу, на лбу и стекали по вискам.
– Что? – без любопытства спросил Колька. – Собачник? – Он сообразил, что в умной башке Сашки что-то заваривалось важное. – Нет, не знаю.
– Ящик… Железный такой ящик, – продолжал Сашка ровно, глаз не открывая. Может, он сон свой рассказывал. – Снизу вагона его подвешивают… Это когда мы на одной станции стояли, я в соседнем поезде углядел… А Зверек флажками ткнул и говорит: собачник, мол, до войны или когда там… собак, говорит, в таких ящиках возили. А сейчас и людям впору ездить.
– Ловок твой Зверек! – Колька вздохнул.
– Вместе ворон ловили, – сказал Сашка и открыл глаза. – Так вот, я тогда залез, примерился… И правда, ехать можно.
Колька понял.
– Значит, пора? – спросил, глядя на Сашку. – А колония?
– Попробовали же!
Сашка рассказал анекдот про человека, который увидел на дороге дерьмо. Нагнулся, удивился, на язык попробовал. И вдруг воскликнул: «Хорошо, попробовал, а то бы вляпался!»
Колька не засмеялся. Он прикрыл лопушком голову и дремал на солнышке. Да и чего смеяться, если они оба, по тому самому анекдоту, вляпались… С колонией вляпались… Да и с Ильей тоже.
А Сашка уже не терпел. Его идея подтачивала.
– Пойдем на станцию, – предложил он.
– Сейчас?
– А когда еще…
– Может, сперва это… Может, склад покурочить? Как говорит Зверек…
– Не Зверек он – Зверь, – сказал Сашка жестко. – Ну, пошли? Да ты не думай, мы сегодня и вернемся!
Колька понял, что Сашка не зазря себя и его гонит, значит так надо.
– Полежим чуть-чуть? – попросил он. – У меня ноги дрожат.
– Вот и разойдемся, – деловито произнес Сашка. – Вон, кстати, подвода…
Вовремя Сашка углядел подводу, а так бы топать им на станцию до вечера. И то неизвестно, дошли бы.
Через поле, наперерез, выскочили они к телеге, крикнули издалека:
– На станцию?.. Дяденька?
– На станцию, тетенька, – сказал мужчина и показал, рукой повелел: – Садись! Авось да небось добежим! У меня паровоз ходкий!
Не старый мужик и не седой, как заметили братья, но старей Ильи. В линялой, до белизны выгоревшей гимнастерке с белыми, от кальсон, пуговицами, в кепочке с козырьком на глаза. Сидел, подремывал, изредка вскидывал на дорогу светлые с голубизной глаза и опять погружался в себя. На братьев, подсевших к нему, он уже не обращал внимания.
Где-то лишь на подъезде к станции полюбопытствовал:
– Колонисты небось?
– А что? – настороженно спросил Колька.
– Бегете…
– Куда… Мы бегем?
– Ну куды-куды… Ясно, куды все бегут… Домой! – сказал мужик и причмокнул, понукая лошадь.
– Может, у кого и есть дом… А у кого и нет, – огрызнулся Колька. И посмотрел на мужика.
Но тот, видать, не собирался ссориться и разговор затеял вовсе не для обличения. Он приподнял кепочку, глянул на братьев, точно в голубое окунул. Молвил кротко:
– А ведь верно. У кого он есть… А у кого? Я скажу: такая война, что всех перевернула и выкинула из привычного… Небо с землей поперепуталось, живые с мертвяками… А нонче-то вдруг все поняли – войне-то конец… О доме заговорили… – Он помолчал, но ответа не ждал. В свое погрузился. И снова начал неожиданно: – До этого о жизни не думали, думали не как жить, а как бы выжить… Не до жиру, быть бы живу – во как думали! Как уцелеть. – Он постучал кнутовищем по ноге, и она отдалась деревянным стуком. Только теперь братья заметили – мужик-то без ноги. Инвалид, значит. Он между тем продолжал: – Отдал часть себя, другую часть готов был отдать. Вроде сам себе не нужон был. А сейчас дело-то к концу, так себя жалко стало… А вдруг, думаю, поживу? А где жить? – спрашиваю. Дом-то где? Где? Нету… Семью поубивали и дом спалили. Так я в свою деревню не поехал, как узнал. Приехать на такое – все равно что на кладбище поселиться! Кажен день кровью истекать. Себя убьешь… Вот и решился в Березовскую… Ну как приживусь… Вы-то малы, у вас запас времени есть шерстью обрасти. А у мине нет. Я без надежды поселялся… Это сейчас надежда появилась. Вон за станцией на подсобном я вкалываю. Если что – Демьяна спросите…
Сказал и снова будто под козырек спрятался. Ушел, как черепашка под панцирь.
Когда братья у станции сошли, поблагодарили, он вроде бы оживился, кивнул:
– Бывайте! – И дернул вожжи. – А вообще приходите, если не побегете… Я-то лично не побегу. Край-то богатый, можно бы жить… Страх все портит. А мне так все одно бояться нечего. Кончилась моя боясть…
Братья еще раз сказали «спасибо» и пошли. Враскорячку пошли, костистые их зады на тележных слегах порядком набило. Добрели до серных ямок, ополоснулись – стало легче. Совсем легко. Будто те вонючие ямки были наполнены живой водой из сказки.
А когда-то, в невероятно далекие времена, ехали сюда, на воды, барышни и барины из северных столиц… В белых нарядах, с цветными зонтиками, в богатых экипажах, гуляли тут столичные дамы и усатые офицеры, и все затем лишь, чтобы попить кавказских вод и привести в порядок здоровье… Играл им тут духовой оркестр, цвели глицинии. А после горячих вод прекрасные господа поднимались наверх, к ротонде, и смотрели на дальние горы в закатном золотом свете… Как выразилась Регина Петровна: лицезрели!
Так ли было или придумала воспитательница сказку, братья не разобрали. Воды-то были, они тут и до Кузьмёнышей текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи – другое дело… Жрать захочешь – прискочишь… А вода, она и есть вода. Ешь – вода, пей – вода… срать не будешь никогда!
Но поезда все не было, а его здесь, с горки-то, издалека видать; братья забрались на небольшую вершинку, где блистала белоснежная ротонда.
Вблизи она оказалась не такой уж белоснежной. Была она облезлая, загаженная, да к тому же все колонны исписаны, исцарапаны надписями: по-русски и по-немецки, наверное.
Сашка присел на каменные ступени, стал смотреть на долину. Как некогда барышни и кавалеры смотрели. А Колька нашел острый камень и нацарапал на колонне: «Кузьмины из Томилина. 10.9.44 г.».
Усмехнулся, разглядывая надпись. Знайте наших, тоже, мол, принимали воды и лицезрели закаты в горах! Приедут они через… ну… через двадцать лет стариками, как этот Демьян, покажут шакалам детдомовским на ротонду: гуляли тут с Сашкой… Оркестр, мол, играл, и барышни с зонтиками ахали от восторга…
Колька свою картину додумать не успел – за дальним изгибом плешивой горы дымок показался. Братья рысцой побежали вниз, успели как раз к поезду.
Сашка деловито прошел вдоль состава, заглядывая под вагоны, наконец нашел то, что надо, позвал брата.
– Смотри! – указал пальцем.
Прямо под вагоном, нависая над рельсом, прикреплен грязный рыжий ящик, продолговатый, как гроб.
Сашка приподнял крышку и велел Кольке лезть.
– А не уедем?
– Ну, уедем, – сказал Сашка. – Ну и что?
Громко сопя от натуги, Колька влез в ящик, потом туда забрался и Сашка. Выходило, что валетом ехать можно. Прямо в боковой стенке набиты круглые отверстия, в них можно смотреть одним глазом. Рядом шпалы, рельсы, трава. Одно боязно – не оторвался бы ящик на ходу, а то, правда, гробом станет.
– Гроб железный с музыкой! – сказал Колька в дыру. – Из северных столиц… В экипаже, на воды… Господа прибыли, Кузьмины!
И щеки надул: «Пум, пум, пум, пум…» Оркестром заиграл в честь своего прибытия в собачнике.
А Сашка сказал:
– За бесплатно куда хошь? А?
– А куда ты хошь? – спросил Колька. – Пум, пум, пум…
– Дальше, дальше, – сказал Сашка. – Я еще дальше хочу. Я обратно не хочу.
– А хуже не будет?
– Чем сейчас-то?
– Да. Чем сейчас!
Поезд впереди загудел, громыхнули вагоны. Ящик с силой тряхнуло.
Колька громче ударил марш: «Пум, пум, пум…»
А Сашка предложил:
– Поехали, а?
– Сейчас?
– А что?
– А Регина Петровна?
Сашка промолчал.
– Она с мужичками одна останется? Не жалко? – крикнул Колька.
Сашка быстро откинул крышку и выскочил. За ним вывалился и Колька, споткнулся о шпалину. Смотрели вслед поезду, вагону со своим, уже ставшим своим, ящиком. Будто мечту проводили.
Ночевали в полусгоревшем товарняке на запасных путях. И у Регины Петровны объявились лишь вечером следующего дня.
Но прежде прошли мимо склада, чтобы убедиться, что замок, тот самый замок с задвижечкой, на месте.
Воспитательница открыла не тотчас. Увидев братьев, пригласила войти, но сделала знак: тише, мол, дети спят.
Кузьмёныши на цыпочках прошли в комнату, оглядываясь на кровать, где валетом в разных позах спали мужички. Жорес разбросанно, на спине, а Марат, наоборот, комочком, натянув одеяло на голову. Сейчас стало заметно, что Жорес старше.
Сама Регина Петровна была в ярко-розовом, сверкающем, как золото, платье, с пуговицами и очень длинном, до пола.
Такая блестящая, с распущенными черными волосами, она показалась братьям еще прекрасней. Вот уж и правда царица.
– Садитесь. Я вас ждала. С чем пришли, дружочки? Голодные?
– Нет, – отвечал за обоих Сашка. – Мы уже один раз ели.
А Колька положил на тумбочку сало, завернутое в лопушок.
Регина Петровна посмотрела на сало, не притрагиваясь к нему, на ребят. Покачала головой:
– Нет, нет. Спасибо. Я не возьму.
И, так как братья недоуменно молчали, пояснила:
– Вы заработали, вы и ешьте! А как, кстати, вы его заработали?
Братья переглянулись.
– Ну вот, – сказала Регина Петровна. – Думаю, что мы друг друга поняли. Правда?
Сашка кивнул. Он соображал быстрей Кольки. Но тут и соображать не надо. Воспитательница еще там, у склада, догадалась о краже вещей. Оттого и волновалась, и ждала. Но ведь не выдала! Вот главное!
Она между тем продолжала:
– Я ведь вас искала, спрашивала. Вы не ночевали, да? Все решили, что вы удрали, говорят, вас видели на станции… Но я не поверила, я знала, что вы не уедете так. Я не ошиблась.
Регина Петровна полезла в карман висящего на стене пальто, что-то поискала и, не найдя, вернулась, села.
– Господи, как без курева тяжко… Хоть травку какую… Ну ладно. Вот для чего я вас искала: на днях мы начинаем работать на консервном заводе. Петр Анисимович договорился. Работать будут старшеклассники: пятые – седьмые классы. Но я записала и вас… Хоть подкормитесь там. Вы поняли, да?
Братья неуверенно кивнули, никакой завод не входил в их планы.
– Пожалуйста, не перепутайте: вы у меня не четвертый, вы у меня пятый класс… Младших пошлют в колхоз яблоки собирать… А теперь идите спать. – И уже вслед: – Сало, сало свое не забудьте!

