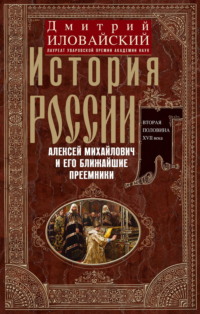
История России. Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. Вторая половина XVII века
Меж тем намерения и приготовления короля, разумеется, недолго оставались тайными и возбудили сильную оппозицию среди сенаторов и шляхты. Во главе этой оппозиции явились такие влиятельные вельможи, как литовский канцлер Альбрехт Радзивилл, коронный маршал Лука Опалинский, воевода русский Еремия Вишневецкий, воевода краковский Станислав Любомирский, каштелян краковский Яков Собеский. Польный коронный гетман Николай Потоцкий, теперь преемник Конецпольского, также оказался на стороне оппозиции. Сам канцлер Оссолинский уступил бурным выражениям недовольных, уже обвинявших короля в намерении присвоить себе абсолютную власть с помощью наемных войск. Ввиду такого отпора король не нашел сделать ничего лучшего, как торжественно и письменно отвергнуть свои воинственные замыслы и распустить часть собранных отрядов. А Варшавский сейм, бывший в конце 1646 года, пошел далее и постановил не только полное распущение нанятых отрядов, но и уменьшение самой королевской гвардии, а также удаление от короля всех иностранцев.
При таких-то политических обстоятельствах Богдан Хмельницкий порвал свои связи с Речью Посполитой и выступил во главе нового казацкого восстания. Эта эпоха его жизни в значительной степени сделалась достоянием легенды, и трудно восстановить ее исторические подробности. Поэтому можем проследить ее только в общих, наиболее достоверных чертах.
По всем признакам, Богдан был не только храбрый, расторопный казак, но и домовитый хозяин. Поместье свое Суботово он успел привести в цветущий вид и населил его оброчным людом. Кроме того, он выхлопотал у короля еще соседний степной участок, лежавший за рекой, где устроил пасеки, гумна и завел хутор, по-видимому названный Суботовкой. У него был свой дом и в городе Чигирине. Но пребывал он преимущественно в Суботове. Здесь гостеприимный двор его, наполненный челядью, скотом, хлебом и всякими запасами, представлял образец зажиточного украинского хозяйства. А сам Богдан, будучи уже вдов, имея двух юных сыновей, Тимофея и Юрия, очевидно, пользовался в своей округе почетом и уважением как по своему имущественному положению, так еще более по своему уму, образованию и как человек опытный, бывалый. Реестровая казацкая старшина того времени уже успела настолько выделиться из среды малорусского народа, что заметно старалась примыкать к привилегированному сословию Речи Посполитой, то есть к панско-шляхетскому, которому подражала и в языке, и в образе жизни, и во владельческих отношениях к поспольству или простонародью. Таков был и Хмельницкий, и если честолюбие его далеко не было удовлетворено, то разве потому, что он, несмотря на свои заслуги, все еще не получил ни полковничьего, ни даже подстаростинского уряда, по нерасположению к нему ближайших польских властей. Именно это-то нерасположение и вызвало роковое столкновение.
По смерти коронного гетмана Станислава Конецпольского Чигиринское староство перешло к его сыну Александру, коронному хорунжему. Последний оставил своим управляющим или подстаростой некоего шляхтича, вызванного из Великого княжества Литовского, по имени Даниил Чаплинский. Этот Чаплинский отличался дерзким характером и страстью к наживе, к хищениям, но был человек ловкий и умел угождать старому гетману, а еще более его молодому наследнику. Он был ярый католик, ненавистник православия, и позволял себе издеваться над священниками. Враждебный вообще казачеству, он особенно невзлюбил Хмельницкого, потому ли, что завидовал его имущественному положению и общественному почету, или потому, что между ними возникло соперничество по отношению к девушке-сироте, которая воспитывалась в семье Богдана. Возможно допустить и то и другое. Чигиринский подстароста начал всеми способами притеснять Чигиринского сотника и объявил притязание на его суботовское поместье или, по крайней мере, на известную часть, причем выманил у него коронный привилей на это поместье и не возвратил. Однажды, в отсутствие Хмельницкого, Чаплинский сделал наезд на Суботово, сжег скирды с хлебом и похитил помянутую девушку, которую сделал своей женой. В другой раз он в Чигирине схватил старшего Богданова сына, подростка Тимофея, и велел жестоко высечь его розгами публично на рынке. Потом схватил самого Богдана, несколько дней держал его в заключении и освободил только по просьбе своей жены. Не раз производились покушения и на самую его жизнь. Например, однажды на походе против татар какой-то клеврет подстаросты заехал Хмельницкому в тыл и ударил его по голове саблей, но железная шапка охранила его от смерти, а злодей извинился тем, что принял его за татарина.
Тщетно Хмельницкий обращался с жалобами и к старосте Конецпольскому, и к начальнику реестровых или польскому комиссару Шембергу, и к коронному гетману Потоцкому: никакой управы на Чаплинского он не находил. Наконец, Богдан поехал в Варшаву и обратился к самому королю Владиславу, от которого уже имел известное поручение относительно черноморского похода на турок. Но и король, по своей ничтожной власти, не мог избавить Хмельницкого и вообще казачество от панских обид; говорят, будто бы в своем раздражении против вельмож он указал ему на саблю, напомнив, что казаки сами воины. Впрочем, помянутое поручение, не сохранившееся в тайне, вероятно, еще более побудило некоторых панов принять сторону Чаплинского в его споре с Хмельницким за владение Суботовым. Чаплинский, по-видимому, сумел выставить последнего человеком опасным для поляков и что-то против них замышляющим. Неудивительно поэтому, что коронный гетман Потоцкий и хорунжий Конецпольский приказали Чигиринскому полковнику Кречовскому взять Хмельницкого под стражу. Приязненный сему последнему, полковник упросил потом дать ему некоторую свободу за своей порукой. Богдан ясно видел, что означенные паны не оставят его в покое, пока не доконают; а потому, воспользовавшись этой свободой, решился на отчаянный шаг: уйти в Запорожье и оттуда поднять новое восстание. Чтобы не явиться к запорожцам с пустыми руками, он, прежде нежели покинуть свое гнездо, с помощью хитрости завладел некоторыми королевскими грамотами или привилеями (в том числе грамотой о построении лодок для черноморского похода), хранившимися у черкасского полковника Барабаша. Рассказывают, будто на праздник святого Николы, 6 декабря 1647 года, Богдан зазвал к себе в Чигирин названного сейчас приятеля и кума своего, напоил его и уложил спать; у сонного взял шапку и хустку или платок (по другой версии, ключ от скрыни) и послал гонца в Черкасск к жене полковника с приказанием от имени мужа достать означенные привилеи и вручить посланному. Поутру, прежде нежели Барабаш проснулся, грамоты были уже в руках Богдана. Затем, не теряя времени, он с сыном Тимофеем, с некоторым числом преданных ему реестровых казаков и с несколькими челядинцами поскакал прямо в Запорожье.
Сделав около 200 верст по степным путям, Богдан пристал сначала на острове Буцке или Томаковке. Находившиеся здесь казаки принадлежали к тем, которые несколько лет назад под начальством атамана Линчая возмутились против Барабаша и прочей реестровой старшины за ее излишнее себялюбие и угодливость полякам. В усмирении этого мятежа принимал участие и Хмельницкий. Линчаевцы хотя и не отказали ему в гостеприимстве, но отнеслись к нему подозрительно. Кроме того, на Томаковке стояла залога, или очередная стража от реестрового Корсунского полка. Поэтому Богдан вскоре удалился в самую Сечь, которая тогда расположена была несколько ниже по Днепру на мысу или так называемом Никитином Роге. По обычаю, в зимнее время в Сечи для ее охраны оставалось небольшое число запорожцев, с кошевым атаманом и старшиной, а прочие разошлись по своим степным хуторам и зимовникам. Осторожный, предусмотрительный Богдан не спешил объявлять сечевикам о цели своего прибытия, а ограничился пока таинственными совещаниями с кошевым и старшиной, постепенно посвящая их в свои планы и приобретая их сочувствие.
Бегство Богдана, конечно, не могло не вызвать некоторой тревоги на его родине среди польско-казацкого начальства. Но он искусно постарался, насколько возможно рассеять его опасения и отклонить до поры до времени принятие каких-либо энергических мер. С сей целью, опытный в письменном деле, Богдан отправил целый ряд посланий или «листов» к разным лицам с объяснением своего поведения и своих намерений, а именно к полковнику Барабашу, польскому комиссару Шембергу, коронному гетману Потоцкому и Чигиринскому старосте хорунжему Конецпольскому. В этих листах он с особой горечью останавливается на обидах и грабежах Чаплинского, заставившего его искать спасения в бегстве; причем свои личные обиды связывает с общими притеснениями украинскому народу и православию, с нарушением их прав и вольностей, утвержденных королевскими привилеями. В заключение своих листов он уведомляет о скором отправлении от войска Запорожского к его королевскому величеству и ясновельможным панам-сенаторам особого посольства, которое будет ходатайствовать о новом подтверждении и лучшем исполнении означенных привилеев. О каких-либо угрозах возмездием нет и помину. Напротив, это человек несчастный и гонимый, смиренно взывающий к правосудию. Такая тактика, по всем признакам, в значительной степени достигла своей цели, и даже польские шпионы, проникавшие в самое Запорожье, пока ничего не могли сообщить своим патронам о замыслах Хмельницкого. Впрочем, Богдан еще не мог знать и предвидеть, какой оборот примет его дело и какую поддержку найдет он в русском народе; а потому уже по чувству самосохранения должен был пока иметь вид смирения и преданности Речи Посполитой. Итак, уже с первых шагов он показал, что не будет простым повторением Тарасов, павлюков, остранинов и тому подобных простодушных, бесхитростных политиков, появлявшихся во главе неудачных украинских мятежей. Наученный их примером, он воспользовался наступившим зимним временем, чтобы к весне приготовить и народную почву, и союзников для борьбы с Польшей.
Работая над возбуждением умов в украинском народе при посредстве своих приятелей и запорожских посланцев, Богдан, однако, не полагался на одних украинцев, а в то же время обратился и за внешней помощью туда, куда не раз обращались и его предшественники, но без успеха, именно в Крымскую орду. И тут он принялся за дело опытной и умелой рукой; причем воспользовался своим личным знанием орды, ее обычаев и порядков, а также приобретенными в ней когда-то знакомствами и вообще современными политическими обстоятельствами. Но не вдруг наладилось дело и с этой стороны. На ханском престоле сидел тогда Ислам-Гирей (1644–1654), один из наиболее замечательных крымских ханов. Когда-то находившийся в польском плену, он имел возможность ближе знать положение Речи Посполитой и отношения к ней казачества. Ислам-Гирей, хотя и питал неудовольствие против короля Владислава, не хотевшего платить ему обычных поминков, хотя и был осведомлен Хмельницким о бывшем намерении короля послать казаков против татар и турок, однако в начале переговоров он не придал большого значения замыслам и просьбам дотоле малоизвестного Чигиринского сотника; притом он не мог предпринять войну с Польшей, не получив предварительного согласия турецкого султана; а Польша находилась тогда в мире с Портою. Одно время Богдан считал свое положение настолько трудным, что думал оставить Запорожье и с близкими людьми искать убежища среди донских казаков. Но любовь к родине и начавшийся приток подобных ему беглецов из Украйны на Запорожье удержали его и заставили прежде, нежели бежать на Дон, попытать счастья в открытом военном предприятии.
Для разобщения Украйны с Запорожьем, как мы знаем, при начале порогов была построена крепость Кодак и занята польским гарнизоном; а за порогами, для непосредственного наблюдения за сечевиками, реестровые полки по очереди держали стражу. На ту пору, как сказано выше, эта стража была выставлена корсунским полком; она находилась на крупном днепровском острове Буцке или Томаковке, лежавшем верст на восемнадцать выше Никитина Рога, где тогда располагалась Сечь. Около Хмельницкого успело собраться до пяти сот украинских беглецов или гультяев, готовых идти за ним всюду, куда он поведет. В конце января или начале февраля 1648 года Богдан, конечно, не без соглашения с запорожской старшиной и, вероятно, не без помощи с ее стороны людьми и оружием, со своими отчаянными гультяями внезапно напал на корсунцев, прогнал их с Томаковки и стал здесь укрепленным лагерем. Этот первый решительный и открытый удар отозвался далеким эхом на Украйне: с одной стороны, он возбудил волнение и смелые ожидания в сердцах угнетенного малорусского народа, а с другой – вызвал большую тревогу среди польских насельников, панов и шляхты, в особенности когда сделалось известно, что многочисленные посланцы из Запорожья от Хмельницкого рассеялись по украинским селам, чтобы возбуждать народ к мятежу и вербовать новых охотников под знамена Богдана. Побуждаемый усиленными просьбами встревоженных украинских панов и державцев, коронный гетман Николай Потоцкий собрал свое кварцяное войско и принял довольно внушительные меры предосторожности. Так, он издал суровый универсал, воспрещавший всякие сношения с Хмельницким и грозивший смертью оставшимся дома женам и детям и лишением имущества тем молодцам, которые вздумают бежать к Хмельницкому; для перехватывания таких беглецов расставлена была стража по дорогам, ведущим в Запорожье; паны-землевладельцы получили приглашение вооружить только надежные замки, а из ненадежных, напротив, вывести пушки и снаряды, далее усилить и держать в готовности надворные хоругви, чтобы присоединить их к коронному войску, а у своих холопов отобрать оружие. В силу этого распоряжения в обширных имениях одного только князя Еремии Вишневецкого было отобрано несколько тысяч самопалов. Однако можно полагать, что еще большее количество холопам удалось припрятать. Эти меры, во всяком случае, указывают, что полякам приходилось теперь иметь дело уже не с прежней мирной и почти безоружной русской деревней, а с народом, жаждавшим освобождения и навыкшим к употреблению огнестрельного оружия. Означенные меры на первое время подействовали. Украинские крестьяне продолжали сохранять наружное спокойствие и смирение перед панами, и пока только немногие головорезы, люди бездомные или которым нечего было терять, продолжали уходить на Запорожье.
Дружина Хмельницкого в то время, по-видимому, насчитывала более полутора тысяч человек, а потому он усердно занимался возведением укреплений вокруг своего лагеря на Томаковке, углубляя рвы и набивая частоколы; копил съестные припасы и устроил даже пороховой завод. Гетман Потоцкий не ограничился принятием мер на Украйне: не отвечавший прежде на скорбные послания Хмельницкого, он теперь сам обратился к Богдану и не один раз посылал к нему, предлагая спокойно воротиться на родину и обещая полное помилование. Богдан ничего не отвечал и даже задержал посланцев. Потоцкий отправил для переговоров ротмистра Хмелецкого: последний давал свое честное слово, что и волос не упадет с головы Богдана, если он покинет мятеж. Но Хмельницкий хорошо знал, чего стоит польское слово, и на сей раз отпустил посланцев, предъявляя чрез них свои условия примирения, которым, впрочем, он придавал вид челобития. Во-первых, чтобы гетман с коронным войском вышел из Украйны; во-вторых, удалил бы польских полковников с их товарищами из казацких полков; в-третьих, чтобы казакам были возвращены их права и вольности. Этот ответ заставляет догадываться, что Хмельницкий, задерживая прежних посланцев, старался выиграть время, а что теперь, при более благоприятных обстоятельствах, он заговорил более решительным тоном. Дело в том, что в это время, именно в половине марта, к нему уже подошла татарская помощь.
Первый успех Хмельницкого, то есть изгнание реестровой залоги и захват острова Томаковки, не замедлил отозваться в Крыму. Хан сделался доступнее его посланцам, а переговоры о помощи оживились. (По некоторым не совсем достоверным известиям, Богдан будто бы в это время сам успел съездить в Крым и лично поладить с ханом.) По всей вероятности, и со стороны Константинополя не последовало запрещения, когда там узнали о стараниях короля Владислава и некоторых вельмож вооружить казацкие чайки и бросить их на турецкие берега. Впрочем, около того времени на султанском престоле явился семилетний Магомет IV, и его малолетством искусно воспользовался Ислам-Гирей, и без того державшийся по отношению к Порте более самостоятельной политики, чем его предшественники. Этот хан был в особенности склонен к набегам на соседние земли для доставления добычи своим татарам, среди которых поэтому пользовался любовью и преданностью. Хмельницкий ловко затронул сию слабую струну. Он подстрекнул татар обещанием отдавать им весь будущий польский полон. Переговоры закончились тем, что Хмельницкий отправил к хану заложником своего юного сына Тимофея и присягнул на верность союзу с ордой (а может быть, и некоторому ей подчинению). Ислам-Гирей, однако, выжидал событий, и пока не трогался сам со своей ордой, а к весне двинул на помощь Хмельницкому его старого приятеля ближайшего к Запорожью перекопского мурзу Тугай-бея с 4000 ногаев. Часть этих татар Богдан поспешил переправить на правый берег Днепра, где они не замедлили схватить или прогнать польские сторожи и тем открыть пути для украинских беглецов в Запорожье.
Кошевой атаман в то же время, по соглашению с Хмельницким, стянул в Сечь запорожцев из их зимовников с берегов Днепра, Буга, Самары, Конки и прочих. Собралось войско конное и пешее, числом тысяч до десяти. Когда сюда же прибыл и Богдан с несколькими послами из орды Тугай-бея, то выстрелами из пушек с вечера было возвещено, чтобы на следующий день войско собралось на раду. 19 апреля рано поутру снова раздались пушечные выстрелы, затем ударили в котлы; народу собралось столько, что все не могли поместиться на сечевом майдане; а потому вышли за валы крепости на соседнее поле и там открыли раду. Тут старшина, объявив войску о начале войны с поляками за причиненные ими обиды и притеснения, сообщила о действиях и планах Хмельницкого и заключенном им союзе с Крымом. Вероятно, тут же Хмельницкий предъявил казакам похищенные им королевские привилеи, которых паны не хотели исполнять и даже скрывали их. Крайне возбужденная всеми этими известиями и заранее к тому подготовленная рада единодушно выкрикнула избрание Хмельницкого старшим всего войска Запорожского. Кошевой тотчас послал войскового писаря с несколькими куренными атаманами и знатным товариществом в войсковую скарбницу за гетманскими клейнотами. Принесли златописаную хоругвь, бунчук с позолоченной галкой, серебряную булаву, серебряную войсковую печать и медные котлы с довбошем и вручили их Хмельницкому. Закончив раду, старшина и часть казачества пошли в сечевую церковь, отслушали литургию и благодарственный молебен. Потом произведена пальба из пушек и мушкетов; после чего казаки разошлись по куреням на обед, а Хмельницкий со своей свитой обедал у кошевого. Отдохнув после обеда, он и старшина собрались на совет к кошевому и тут порешили одной части войска выступить с Богданом в поход на Украйну, а другой разойтись опять по своим рыбным и звериным промыслам, но быть наготове, чтобы выступить по первому требованию. Старшина рассчитывала, что как скоро Богдан прибудет на Украйну, то к нему пристанут городовые казаки и войско его весьма умножится5.
Этот расчет хорошо понимали польские предводители, и коронный гетман, в конце марта считавший, что у Хмельницкого было до 3000, писал королю: «Сохрани Бог, чтобы он вошел с ними в Украйну; тогда бы эти три тысячи быстро возросли до 100 000, и что бы мы стали делать с бунтовщиками?» Согласно с сим опасением, он ждал только весны, чтобы двинуться из Украйны в Запорожье и там подавить восстание в самом его зародыше; а между прочим, для отвлечения Запорожья советовал осуществить старую идею: дозволить им морские набеги. Но такие советы теперь уже запоздали. Сам Потоцкий стоял со своим полком в Черкасах, а польный гетман Калиновский со своим – в Корсуни. Остальное коронное войско располагалось в Каневе, Богуславе и других ближних местах Правобережной Украйны.
Но между польскими предводителями и панами не было согласия уже в самом плане действия.
Знакомый нам западнорусский православный вельможа Адам Кисель, воевода Брацлавский, советовал Потоцкому не ходить за пороги, чтобы разыскивать там бунтовщика, а лучше приласкать всех казаков и ублажить их разными послаблениями и льготами; советовал не раздроблять малочисленное коронное войско на отряды, снестись с Крымом и Очаковом и тому подобное. В том же смысле он писал и королю. Владислав IV пребывал тогда в Вильне и отсюда следил за началом казацкого движения, получая разнообразные донесения. Коронный гетман сообщил свой план идти на Хмельницкого двумя отделами: один степью, а другой Днепром. По зрелом размышлении, король согласился с мнением Киселя и послал приказ не делить войско и пока подождать с походом. Но было поздно: упрямый и самонадеянный Потоцкий уже двинул вперед оба отряда.
Благодаря татарским караулам прекратились донесения польских шпионов о том, что делалось в Запорожье, и Потоцкий не знал ни о встречном движении Хмельницкого, ни о соединении его с Тугай-беем. Предприятию Богдана помогли не только его личный ум и опытность при благоприятных политических обстоятельствах; но, несомненно, на его стороне в эту эпоху оказалась и значительная доля слепого счастья. Главный неприятельский вождь, то есть коронный гетман, как будто бы задался мыслью всеми зависящими от себя средствами облегчить Хмельницкому успех и победу. Так хорошо он распорядился находившимися в его руках военными силами! Около обоих гетманов собрались прекрасно вооруженные кварцяные полки, надворные панские хоругви и реестровое казачество – всего не менее 15 000 по тому времени отборного войска, которое в искусных руках могло бы раздавить каких-нибудь четыре тысячи Богдановых гультяев и запорожцев, хотя бы и подкрепленных таким же количеством ногаев. Но, с пренебрежением относясь к силам противника и не слушая возражений своего товарища Калиновского, Потоцкий думал предпринять простую военную прогулку и, ради удобств похода, принялся дробить свое войско. Он отделил шесть тысяч и послал их вперед, вручив предводительство сыну своему Стефану, конечно предоставляя ему случай отличиться и заранее заслужить гетманскую булаву, а в товарищи ему дал казацкого комиссара Шемберга. Большинство этого передового отряда как бы нарочно составлено было из реестровых казацких полков; хотя при сем их вновь привели к присяге на верность Речи Посполитой, но было большим легкомыслием доверять им первую встречу с возмутившимися их сородичами. Мало того, и самый передовой отряд подразделен на две части: около 4000 реестровых казаков с некоторым количеством наемных немцев посажены на байдаки или речные суда и Днепром из Черкас отправлены под Кодак с малыми пушками и с запасами боевых и съестных припасов; а другая часть, до 2000 гусарской и драгунской конницы, с молодым Потоцким пошла степной дорогой также к Кодаку, под которым эти две части должны были соединиться. Сия вторая часть должна была следовать невдалеке от днепровского берега и постоянно сохранять связь с речной флотилией. Но эта связь скоро утратилась: конница двигалась не спеша, с роздыхами; а флотилия, уносимая течением, ушла далеко вперед.
Те же татарские разъезды, которые прекратили полякам вести с Запорожья, наоборот, помогали Богдану от перехваченных и пытаных шпионов вовремя узнать о походе гетманов и разделении их войска на отряды. Он оставил пока в стороне крепость Кодак с ее четырехсотенным гарнизоном и также двигался по правобережью Днепра навстречу Стефану Потоцкому. Само собой разумеется, он не замедлил воспользоваться обособленной флотилией реестровых и выслал расторопных людей, которые вошли с ними в сношения, и горячо убеждали их встать заодно на защиту своего угнетенного народа и своих попранных казацких прав против угнетателей. Реестровыми полками в то время, как известно, начальствовали нелюбимые полковники из поляков или столь же нелюбимые украинцы, державшие сторону ляхов, каковы Барабаш, бывший в этой флотилии за старшего, и Ильяш, отправлявший здесь должность войскового есаула. По странной неосторожности Потоцкого, в числе старшины находился и Кречовский, лишенный Чигиринского полка после бегства Хмельницкого и, разумеется, легко склонившийся теперь на его сторону. Убеждения, в особенности вид татарской орды, пришедшей на помощь, подействовали. Реестровые возмутились и перебили наемных немцев и своих начальников, в том числе Барабаша и Ильяша. После того с помощью своих судов они переправили на правый берег остальных татар Тугай-бея; а сии последние с помощью своих коней помогли им немедля присоединиться к лагерю Хмельницкого; туда же доставлены были с судов пушки, съестные и боевые припасы.
Таким образом, когда Стефан Потоцкий столкнулся с Хмельницким, он со своими 2000 очутился против 10 или 12 тысяч неприятелей. Но и сим не ограничилась перемена в числах. Бывшие в сухопутном отряде реестровые казаки и драгуны, набранные из украинцев, не замедлили перейти к Хмельницкому. С Потоцким остались только польские хоругви, заключавшие менее одной тысячи человек. Встреча произошла на болотистых берегах Желтых вод, левого притока Ингульца. Несмотря на малочисленность своей дружины, молодой Потоцкий и его товарищи не потеряли мужества; они окружили себя табором из возов, быстро возвели шанцы или окопы, выставили на них пушки и предприняли отчаянную оборону в надежде на выручку со стороны главного войска, куда отправили гонца с известием. Но гонец этот, перехваченный татарскими наездниками, был издали показан полякам, для того чтобы они оставили всякую надежду на помощь. Несколько дней они храбро защищались; недостаток съестных и боевых припасов заставил их склониться на переговоры. Хмельницкий предварительно потребовал выдачи пушек и заложников; Потоцкий согласился тем легче, что без пороху пушки были уже бесполезны. Переговоры, однако, кончились ничем, и сражение возобновилось. Сильно теснимые поляки вздумали начать отступление и табором двинулись через балку Княжие Байраки; но тут попали в самую неудобную местность, были окружены казаками и татарами и после отчаянной обороны частью истреблены, частью забраны в плен. В числе последних находились: сам Стефан Потоцкий, который вскоре умер от ран, комиссар казацкий Шемберг, Ян Сапега, гусарский полковник знаменитый впоследствии Стефан Чарнецкий, не менее известный потом Ян Выговский и некоторые другие представители польского и западнорусского рыцарства. Погром этот совершился приблизительно 5 мая.

