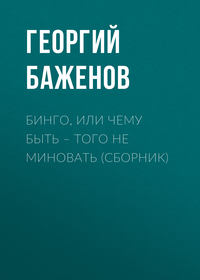
Бинго, или Чему быть – того не миновать (сборник)
Все обошлось, конечно, и Нина не стала наказывать детей, а Максим, с перебинтованной головой, и в тот раз рассмеялся как ни в чем не бывало, даже подмигнув Роману:
– Вот именно, мужчина должен быть как скала! Правильно я говорил.
Может, правильно, может, нет, но ненависть, глубоко спрятанная, подспудная ненависть, с которой дети встречали Максима, и то облегчение от этого гнетущего, омерзительного чувства, которое они испытывали, когда Максим уходил, эта ненависть и одновременно облегчение от нее были самым страшным испытанием для них. Да и для Максима в будущем тоже.
В три часа пополудни Антон Иванович, как штык, стоял около Разумовских бань. Лет сорок, пожалуй, не виделись они с Виталием Капитоновым, и трудно, конечно, сказать, узнают ли они друг друга, во всяком случае Антона Ивановича редко кто признавал сразу: широкая окладистая борода, большие залысины на голове и тяжелые массивные очки делали свое дело. Но вот странная вещь: сам он Виталия Капитонова узнал мгновенно. Быстрый, с серебристым упругим ежиком на голове, с ярким румянцем на щеках, в длинном черном кожаном плаще, с игривой тросточкой в одной руке, а в другой с небольшим ридикюлем, из которого смело торчал дубовый веник, Виталий сразу производил впечатление красавца-мужчины, к тому же удачника, к тому же денежного мешка. Была в его движениях некая барская свобода, уверенность и широта натуры.
– А тросточка-то зачем? – первое, что спросил у него Антон Иванович (нашел что спросить).
Виталий громко рассмеялся (при этом зубы его белоснежно и блистательно обнажились):
– Для понта, для понта, Антоша! – И он крепко, по-медвежьи ухватисто обнял Антона Ивановича, бросив ридикюль прямо на землю, на зеленую траву газонной лужайки.
Первые слова, первые восклицания и удивления – все это проходило для Антона Ивановича как в тумане, и по-настоящему он пришел в себя, только когда они сидели уже в предбаннике, и к ним подкатил простецкий такой мужичок в лихой войлочной шляпе:
– Ну, Виталий Константиныч, какого сегодня парку сделаем?
– Первейшего, первейшего, Никитич! У меня, вот видишь, – он ткнул пальцем в пухловатую грудь Антона Ивановича, – сегодня друг в гостях, друг детства, понимаешь, а? Так что ты уж постарайся, Никитич, чтоб с огоньком был парок, с задорцем, ядреный!
– Да я не так что бы… – запротестовал было Антон Иванович, на что Капитонов с улыбкой хитреца и мага резонно возразил:
– Тоша, сегодня ты у меня в гостях. Так что слушаться, слушаться! Ясно?!
И действительно: первый парок получился так густ и задирист, что Антон Иванович мешком сполз вниз с верхнего полка и, ошалело вытаращив глаза, схватился ладонями за уши, которые не горели – пылали огнем.
Мужики наверху смеялись не над Антоном Ивановичем, а над Капитоновым:
– Что-то слабоват у тебя дружок, а, Константиныч? Дай-ка нам его на выучку, мы его быстро приведем в норму. Ну, отдаешь?
– Ага, отдай ягненка волкам на съедение! – вступился за друга Капитонов. – Тоша, ты посиди там, посиди… Парок, он сейчас спадет, а потом подымайся. Я тебя сам похлещу от души, помнишь, как не дал мне списать контрольную по арифметике?
– Какую контрольную? Ты чего? – ошалело завертел головой Антон Иванович.
– Как какую?! Мужики, он мне во втором классе не дал списать контрольную, имею я теперь право отплатить ему?
– Законное право имеешь, Константиныч! – загоготали мужики. – Самое что ни на есть законное, точно!
Постепенно Антон Иванович попривык к жару, к подначкам и соленым словечкам мужиков и забрался наконец на верхний полок, где Виталий, друг детства, уложил его на широкую, из крепкого осинника, лавку и начал умело охаживать дубовым веником. Нет, он не бил его и не хлестал, а то резкими, то плавными движениями (волна за волной, волна за волной) окатывал распластанное тело тугим прокалённым жаром, так что вскоре Антон Иванович поплыл в истоме и блаженстве в давно забытые грезы детства. А то вдруг Виталий начинал осторожно-любовно охлёстывать распаренное, разомлевшее тело Антона Ивановича размягченным духовитым веником, и тогда казалось, что каждая косточка, каждая жилка его охватывались внутренним нежарким огнем…
После парилки они бултыхались и резвились, как дети, в бассейне, а потом опять и опять забирались на полок, и тут уж Антон Иванович пытался охаживать Виталия веником, но у него плохо получалось, мужики незлобливо гоготали, а истый банщик Никитич отбирал у Антона Ивановича веник и начинал так обхлестывать и отделывать Капитонова, что тот только стонал и крякал и охал, но молил об одном: еще, еще поддай, Никитич, вот так, о-о, вот так, так, молодец!..
А когда закончилась первая ходка в парилку, а потом и вторая, они наконец немного угомонились, верней, Виталий Капитонов угомонился, и, сидя на лавках, закутавшись в простыни, они в блаженной истоме и жажде сдували высокие шапки пены с высоких же кружек и пили, и наслаждались, и упивались свежайшим янтарно-золотистым бочковым пивом.
– Ты понимаешь, Тоша, нет, ты не понимаешь, а надоело мне все к чертовой матери (кроме баньки, конечно, кроме баньки! – с улыбкой хитреца сам себе возражал Капитонов), и вот, не поверишь, решил я бросить все и куда-нибудь укатить, в такие этакие какие-нибудь чертовые дали, чтобы и не найти меня было… Понимаешь ты или нет?
– А что случилось-то, Виталий, ты объясни…
– Да в том-то и дело, что ничего не случилось, все хорошо и распрекрасно, а душа болит, места себе не находит… Можешь ты это понять?
– Пока нет.
– Вот, я помню, ты и в школе только арифметику понимал, дважды два там да трижды три, а душу не понимал.
– Какая душа? О чем ты? Мы же пацаны были.
– Да не был ты никогда пацаном!
Антон Иванович оторопело взглянул на Капитонова, но тот вдруг примиряюще улыбнулся, приобнял Тошу за плечи и проникновенно спросил:
– Ты мне одно объясни: кого любила Эля Хмельницкая?
– Чего-чего?
– Кого любила Эля Хмельницкая?
– Да никого она не любила! Это нам, многим, она нравилась, а она никого не любила.
– Да? – Виталий погрозил Антону дурашливым пальцем: – Смотри у меня, если врешь! – И неожиданно круто зашелся в громком жизнерадостном смехе.
После третьего, а потом и четвертого заходов в парилку они, хоть и продолжали потихоньку наслаждаться пивом, разговаривали все меньше и меньше, как бы уйдя в себя внутренних, чистых, отпаренных и отмытых.
Но когда они вышли из бани, Виталий как бы опомнился, хлопнул себя по лбу и сказал:
– Я ведь тебя зачем приглашал, ты знаешь?
– В баню, наверно, сходить. Детство вспомнить.
– В баню. Точно. Но, во-первых, держи-ка вот эту штуку, – и он протянул Антону Ивановичу свою изумительную, резную, ручной работы трость.
– Зачем это?
– Это тебе мой подарок!
– Да зачем она мне?
– Подарки, Тоша, не выбирают. Держи. Будешь потом меня вспоминать. (Антон Иванович, делать нечего, подхватил трость, и, надо сказать, она вошла в его руку, будто сделана была именно для него.) А, во-вторых, Тоша, и это самое главное, мы сейчас идем ко мне домой.
– К тебе домой?
– Я тут рядом, два шага. Почему и в баню эту хожу… Это же главное – мы должны посидеть, поговорить.
– Может, для первого раза хватит?
– Тоша, цыц! Тебе старшие слова не давали. Гость – он раб хозяина, ты не бывал в Африке, что ли?
– В Африке?
– Да, в Африке. Там гость – всегда раб хозяина и слушается его, как пес.
И не мог понять Антон Иванович, шутит Капитонов сейчас или нет; но одно уяснил твердо: спорить с Виталием бесполезно. Кроме того, положа руку на сердце, он тоже не очень-то хотел расставаться с ним, что-то как будто оставалось то ли неясным, то ли притягательным в их встрече.
Квартира Капитонова удивила Антона Ивановича. Не в том дело, что она была большая и богато обставленная. А в том, что она претендовала на утонченность и изысканность, а выглядела, по меньшей мере, странновато. Прихожая: черная гранитная плитка (какое-то преддверие ада). Кухня: плитка золотая (ну, или как золотая). Спальная комната: сплошной пурпур. Столовая – огромный овальный стол, причем на низких пузатых ножках, так что сидеть приходилось не на стульях, а на жестких подушках-кушетках (как бы на полу, на огромном персидском ковре). Стол – широкое инкрустированное поле – заставлен мыслимыми и немыслимыми бутылками с вином, водкой, коньяком, джином, бренди и бог его знает чем еще. В туалете, как в космосе, в полумраке мерцают голубые звезды плафонов, а в ванной, как в операционной, сверкает все никелем и белизной.
Уселись за стол, на низкие кушетки; Антон Иванович все как-то не мог приноровиться к своему сиденью. Капитонов, бросив на него хитровато-оценивающий взгляд, весело расхохотался:
– Вот так все поначалу! А потом ничего, нравится… Главное, захотел – завалился на ковер, бабам это особо по душе.
И, когда выпили по первой рюмке (а выбрали оба, не сговариваясь, русскую водку) и закусили черной икоркой и серебристо-сахарной осетринкой, Капитонов продолжил разговор про женщин, ткнув при этом пальцем в персидский ковер:
– Хотя им, нашим русским бабам, им все мало. Им или мало, или плохо, или черт его знает еще как, но главное – всё не так и не то, согласен, Антоша?
– Да разные они все, Виталий.
– Ты думаешь, я на них жалуюсь? Плевать мне на них. Понимаешь, надоели они мне все, вот в чем штука. И не только бабы. Всё надоело. Обрыдло и опостылело. Ты хоть знаешь, кем я был до недавнего времени?
– Кем?
– Я, Тоша, был директором огромного завода. Станки мы строили, сеялки, трактора, много чего. А когда меня в Москву позвали, замом министра, я тут чуть с ума не спятил. Я там хозяин, не только завода, но почти всего города, пусть он не большой, город этот, но все же… А здесь я на побегушках. Да и не в этом суть. Там было дело, а здесь муть какая-то. И главное – денег мало. Жена пилит, дочери…
– Это всегда так, – поддакнул Антон Иванович.
Подняли рюмки, чокнулись, выпили.
– И занялся я бизнесом… Бизнес по-русски – это знаешь, что такое?
– Да я многое знаю…
Они начали потихоньку хмелеть, разговор пошел живой, откровенный, по душам.
– Ты вообще-то чем сам занимаешься? – поинтересовался Капитонов.
– Рецензированием.
– Это еще что такое?
– Как что? Тебе надо раскрутить фирму – мы к вашим услугам.
– Что-то я такого не слышал… Ты мне лучше скажи: почему Эля Хмельницкая выбрала не тебя, не меня, не Васю Костоусова, не Лёню Радэ, не поэта Владимира Дагурова, а Терку Баженова?
Антон Иванович чуть не поперхнулся, откусывая аппетитную севрюжку и запивая ее ядреным томатным соком.
– Да с чего ты взял, что она его выбрала?
– Но ведь не за меня и не за тебя она вышла, а за него?!
Тут уж расхохотался Антон Иванович:
– За Терку? Брось! Я его жену знаю: это совсем другая женщина. Татьяна!
– Так я тебе и поверил. У меня, знаешь, сведения точные, как весы в аптеке.
– Ты про какого Терку говоришь? Про нашего? Который сейчас писатель?
– Про него.
– Да он здесь, в Москве живет. К нам частенько заходит. Материалы на рецензию берет.
– Постой, постой, а ты кто такой? Какие рецензии? Ты кем работаешь?
– Президентом Академии.
– Ты? Президентом Академии? Какой еще Академии?! Не смеши меня… Ладно, я не об этом: я о бизнесе по-русски. Слыхал о таком?
– Еще бы. Каждый день имею с ним дело.
– Так вот, то у меня завод, а то у меня шиш на постном масле. И стал я на своем заводе станки старые скупать. Есть даже такой станок: пробки, к примеру, делает. В Подмосковье склад арендовал, старый станок привез, подкрасил, подчистил, подмазал (тут мне зятья помогали) и продал как новенький. За три тыщи купил, за пятнадцать продаю, за десять берут. Понял, какой бизнес?
– Еще бы.
– А тут приезжаю на склад, меня охранник спрашивает: «Ты кто?» – «Я-то, говорю, я некто, а вот ты кто?» – «Если ты, отвечает, некто, то значит никто! И пошел вон!..» Ты врубаешься, Антоша?
– Знакомая история.
– Не в том дело, конечно… А, да что тебе говорить! – махнул рукой Капитонов.
– Не скажи, – возразил Антон Иванович. – Я таких поворотов много знаю…
– Ты пойми: я могу кого хочешь в порошок стереть. В бараний рог согнуть. Через мои руки миллионы проходят. Но… тошно мне! Не из-за этого охранника, нет, вообще тошно. И решил я бросить всё, уехать куда-нибудь к чертовой матери! Вот хоть в Испанию, например.
– От себя далеко не уедешь, Виташа.
– Чего-о? Много ты знаешь! Вот бабы… ой, как они мне опостылели! А дети… зятья, дочери… Всем чего-то надо, без конца то просят, то требуют, и при этом, заметь, Тоша, никто никогда не бывает доволен. Прорва какая-то! И вот был я как-то в Испании, приглядел там в маленьком городишке отель… на берегу Средиземного моря… и ты знаешь что?
– Что?
– Сторговался ведь я! Четыреста тысяч всего – и гостиница твоя. На веки вечные. И солнце. И море. И покой… Ты представляешь?
– Ну, так… с трудом…
– Давай выпьем за это!
– Давай.
Выпили.
– Кстати, тысяч двадцать у тебя не найдется свободных?
– Долларов, что ли? – не понял Антон Иванович.
– Можно и евро, – усмехнулся Капитонов. – Ладно, это я так, к слову. Сам выкручусь… А встретился я с тобой попрощаться, Антоша. Понимаешь ты это или нет?
– Да куда ты от самого себя денешься? Волком завоешь в хвалёной своей Испании.
– Нет, все, решено: уезжаю. Пропади оно все пропадом! Но есть у меня к тебе одна просьба…
– Если деньги – то денег у меня нет.
– Какие деньги! Родителей моих, мать с отцом, ты, может, помнишь?
– Дядя Костю с тетей Верой?
– Вот именно! – обрадовался Капитонов. – Помнишь, точно. Так ведь они живы!
– Я знаю.
– Значит, бываешь на Урале, в Северном поселке? На нашей улице?
– Ну, а как же.
– Вот, старик, об этом и речь. Я уеду – они одни останутся. Кому они на Урале, в нашей глуши, нужны? Жена моя знать их не хочет, а дети – тем вообще все до лампочки. Будешь в Северном – навестишь их?
– О чем разговор.
– Ну, Антоша, золотой человек, дай я тебя обниму. – И они в самом деле троекратно облобызали друг друга.
А хмель-то брал, брал свое… И какими родными, близкими чувствовали они сейчас себя!
– Я Герку-то Баженова тоже хотел найти. Попросить… Но он ведь у меня Эльку увел, не могу ему простить!
Антон Иванович нахмуренно погрозил Капитонову пальцем:
– Какую Эльку? Когда увел? Да она на Украине с мужем живет, знать о нас ничего не знает…
– Нет, Герка ее увел от меня, точно тебе говорю, и женился на ней. И досталась мне только одна утеха, моя жена. А вот родители мои (знаешь ты это или нет?) Баженова как писателя очень даже уважают. Все книги его перечитали. Всё расспрашивают меня о нем…
– Хочешь, хоть сейчас Баженова вызовем? Я позвоню ему, он в Москве.
– Нет, это родители его обожают. А я… так… Испортил он мне всю жизнь, отобрал невесту, любовь, крест поставил на моей судьбе. Теперь вот с дурами только и вожусь…
– Виташа, я тебя в последний раз спрашиваю: ты дурак или только прикидываешься? У него другая жена. Это раз. А второе: ты хоть сам-то читал Георгия Баженова? Земляк ведь наш, одноклассник?
– Никогда.
– Никогда не читал Баженова?!
– Никогда!
– Ну и черт с тобой. Поезжай в свою Испанию. Пропадай там, если дурак. Родители-то твои умней тебя: Баженова читают, да и ты, помяни мои слова, как будешь сидеть в отеле, в Испании-то своей, на берегу моря, так вспомнишь про наш Урал, возьмешь его книги и прослезишься, горькими слезами обольешься о нашей родине…
И, странное дело, здесь они горячо обнялись и заплакали оба – не как женщины, громко и горячо, а просто слезы сами собой лились у них из глаз и лились…
Тут Антон Иванович обратил внимание, какое красивое и широкое окно в столовой Капитоновых, красивое особенно потому, что там, за этими резными из шикарного красного дерева рамами, начинал синеть вечер, в окнах напротив то там, то сям зажигались яркие огни, и Антон Иванович неожиданно поинтересовался у друга:
– Ну, а летать-то ты хоть умеешь?
– Как летать? – не понял Виталий Капитонов.
– Обыкновенно. – Антон Иванович подошел к окну, распахнул раму и показал на густую синеву Москвы, на мириады сверкающих и мигающих огней.
– Ты что, убиться хочешь, что ли, дурак?
– Я не убьюсь, – успокоил Виталия Антон Иванович. – Я на самом деле умею летать. Я сейчас тебе покажу. – Он быстро взобрался на подоконник, вздохнул поглубже и, прежде чем полететь, сказал: – Главное, это первые взмахи. Ты должен почувствовать, что воздушная волна упруга и эластична, ты должен попасть на ее крыло, и она сама подхватит тебя, она никогда не подведет, если ты умеешь разбираться в полетах. – И, вздохнув, добавил: – Конечно, первые взмахи самые тяжелые, это правда, но потом… Вот смотри!
И Антон Иванович спокойно шагнул за окно, исчезнув в синеющем проеме бездонного пространства… Тут же, правда, упругая волна подхватила Антона Ивановича, как бы покачала его немного на себе, как в люльке, а затем Антон Иванович один раз и два и три самостоятельно взмахнул руками, как крыльями, и почувствовал: получается… в который раз получается… И уж если он летал, он любил кувыркаться, делать затяжные сальто, как в детстве, когда занимался гимнастикой, и не просто сальто, а пируэты со многими поворотами и разворотами, а, набаловавшись и натешившись, вновь принимался махать окрылёнными руками и поднимался с воздушной волной все выше и выше, вначале над домами и улицами, потом над кварталами, потом над районами, а потом и над всей Москвой, а потом и дальше, над Подмосковьем, а там уносился в такие дали и выси, что дух захватывало, накатывал страх, что как бы не вырваться навеки от земного притяжения, и Антон Иванович складывал окрылённые руки вдоль тела, и начиналось порывистое, до сердечной боли, захватывающее снижение над Москвой…
Когда он снова оказался на месте, Виталий Капитонов преспокойно спал за столом, уронив голову на тарелку с изящно порезанной осетринкой с севрюжкой, а сам Антон Иванович сидел напротив и смотрел на Капитонова с недоумением и оторопью… Надо же, такой красивый и мощный полет, а Виталий спит как ни в чем не бывало!
Антон Иванович не решился тревожить сон друга (проснется, опять пирование продолжится, а время позднее, жена дома ждет, будет, конечно, волноваться, где он да что с ним…), он просто забрал подарок Капитонова – изумительную по красоте, ручной работы трость и, щелкнув английским замком, захлопнул за собой дверь.
…Позже он будет мучительно вспоминать, в тот ли, в первый день их встречи, или как-то по-иному (от других людей, например, а может и от родственников Виталия Капитонова), он узнал, что гостиница на берегу Средиземного моря, которую тот купил в Испании, носила шикарное имя – BINGO.
Больше всего на свете любила Елена Михайловна то межвременье, когда на работе не было ни Антона Ивановича, ни Максима Котова: сама себе хозяйка, что хочешь – то и делай, хоть пляши. С другой стороны, ей очень нравилось, когда в Академию приходили посетители – хоть кто, лишь бы новые люди.
Причина одна: свои не обращают на ее женские прелести никакого внимания, а чужие обращают внимание прежде всего как раз на ее прелести.
– Ну посмотри же, Максимчик, – сколько раз, смеясь, говорила она Котову, – вот они, мои сестрички, вот они, мои двойняшечки, на-ка, потрогай! – и она поигрывала своими грудями, подпирая их нежными шаловливыми ладошками.
Но у Максима была своя, но пламенная страсть: женщины только худенькие, бр-р…
Антон Иванович… тот, наоборот, частенько производил впечатление, будто не знает, что такое и кто такие вообще женщины, хотя… И тут Елена Михайловна игриво-кокетливо грозилась пальчиком: в тихом омуте черти водятся. А у Антона Ивановича просто был твердый принцип: на работе ни-ни, а уж дальше, как кривая вынесет.
«Ну и ладно, ну и Бог с вами, а кто сегодня придет первый, того и поцелую!» – капризно решила Елена Михайловна, имея в виду, конечно, посетителей или просителей.
Когда Антон Иванович вернулся домой, его встретила странная тишина. Верней, не тишина то была, а какая-то настороженность, напряженность в воздухе, хотя Марина Михайловна расцеловала его в дверях как всегда ласково и приветливо. Но что-то в ее глазах было загадочно-потаённое, необычное.
– Ой, от тебя вином пахнет! И… дубовым веником, что ли?
– Правильно. Я в бане был. А хлестали меня дубовым веничком. От души.
– В бане? Когда? С кем?
– Друг детства объявился. Виталий Капитонов. Вот, трость подарил! – Он горделиво протянул жене изящную свою вещицу, резную и такую удобную в руке.
– Ой, красивая какая! Надо же! – Марина Михайловна прижалась к ней щекой. – Морем пахнет, свежестью…
– Морем? – не понял Антон Иванович. – Как это трость может пахнуть морем? – и улыбнулся. – Чудачка ты, право.
Марина Михайловна проводила мужа на кухню, села напротив него за стол и подперла щеки ладонями.
– Ты ничего не слышишь? – загадочно прошептала она.
– Нет, а что? – Антон Иванович прислушался, но ничего как будто не разобрал.
– Тебе ничего не кажется странным?
– Странным?.. Гм, странной мне кажешься только ты. Впрочем, не обращай внимания. Я пьян.
– Ты пьян? Да нет, просто от тебя пахнет вином, причем каким-то хорошим, тонким… что вы пили?
– Водку.
– Водку? Не может быть. А какой аромат приятный.
– Это у Капитонова квартира такая. Как винный музей… Погоди-ка, а может, мы и вино пили? Что-то я не совсем помню… Он странный вообще – то мужик, забубенный.
– Итак… – произнесла загадочно жена, – ты ничего не слышишь?
– Да нет… – Антон Иванович покрутил в недоумении головой. – Ничего.
– А тишина? Ты слышишь, какая тишина?
– Да, что-то такое есть… Но я не пойму… Марина, ты о чем все-таки?
– Не знаю, радость это или печаль. Но в одном я убедилась: ты пророк.
– Ну, хватила в самом деле! Что случилось-то?
– А вот что. У соседей наверху собака покончила самоубийством.
– Как покончила самоубийством?
– Да так… Запрыгнула на подоконник, рама была открыта, и выбросилась из окна…
Антон Иванович округлил глаза:
– Ты-то откуда это знаешь?
– Все в доме говорят.
– И что, насмерть?
– Конечно. С двадцать первого-то этажа…
– Бедный Бинго! Бедный Бинго! – с искренней болью в голосе произнес Антон Иванович.
– А помнишь, сколько раз ты говорил: «Кончится все это тем, что не выдержит собака издевательств и выбросится из окна!»
– Каких издевательств?
– Одиночества. Вечного, постоянного одиночества. Сколько она выла, сколько гавкала, сколько страдала, с ума можно сойти.
– Да, что-то такое я говорил…
– Не «что-то такое», а именно так ты и говорил: «Выбросится из окна, помяни мое слово!»
– Как я любил его пение…
– Какое пение? Ах, это… никак я не могу привыкнуть, что вой и лай собаки ты называешь пением.
– Ты просто не понимаешь…
– Да что тут понимать? Я хорошо помню, ты сам долго не переносил ни ее лая, ни ее воя.
– А потом я понял, что она страдает, а разве может чужое страдание раздражать или выводить нас из себя? В страдании Бинго я научился различать плач души, а плач – это своего рода песня, только грустная, страшная в своей боли и пронзительности.
– Ну, про это я ничего не хочу слушать, – махнула рукой Марина Михайловна. – Вой, плач, песня… Какая там песня, если места себе не находишь в собственной квартире. Общий для всех дом – это не зверинец и не вольер для любителей животных. Я хочу, как все нормальные люди, жить спокойно и наслаждаться уютом и тишиной. Имею на это полное право.
– Да, но какие высоты он выдавал в своем песенном горевании, в трагическом упоении одиночеством и тоской! Какие глубины! Какие небесные дали!
– Ты до сих пор пьян, что ли?
– Да, пьян, наверное. А что?
– Несешь как всегда околесицу про этого несчастного пса. Царство ему небесное.
– Нет, ты не понимаешь, Марина…
– Я одно понимаю (и убедилась в этом не раз): ты пророк. Не знаю, какой величины, какого масштаба, но пророк. Вот как что скажешь, так тому и быть. Бояться тебя надо. Ох, бояться, Антоша!
– Скажешь тоже… Ты лучше ответь: есть ли у тебя супчик какой-нибудь такой понаваристей да погорячей?
– Ах, подлизуля… Есть, конечно, есть. Сейчас налью! – И, поцеловав Антона Ивановича в его такую домашнюю, теплую лысину на макушке, Марина поднялась из-за стола и направилась к плите.
Нина приехала в Москву из деревни Гиреево, с Владимирщины. Говорят, когда-то хан Гирей оставил на месте русского поселения пепелище, а оно возьми да возродись. Пепелище прозвали Гирей, заклеймить хотели хана, но, как часто у нас бывает, увековечили его имя. Так и пошла новая история деревни: Гиреево да Гиреево. Ничего татарского, конечно, в жителях Гиреева не наблюдалось, кроме раскосых глаз да тончайших талий у девушек, но все же от других людей они явно отличались: то ли статью своей, то ли норовом, то ли черно-дымными глазами с поволокой. Во всяком случае, как только появилась Нина в строительном общежитии, многие пытались приударить за ней, да не получалось: дикая какая-то была, резкая, неуправляемая… А что хотели-то? Девчонке всего семнадцать, будешь тут дикой, когда всего боишься да от всего шарахаешься: чего этим мужикам надо? Да и мать перед глазами стоит, когда отпускала Нину в Москву: «Смотри, в подоле принесешь – убью!»

