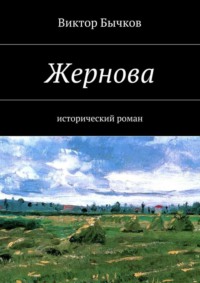
Жернова
Барин бегал среди горящих строений в одном исподнем, блажил:
– Озолочу! Деньгами осыплю! Водки и пива немеряно выкачу! А того, кто поджёг, из-под земли достану, живым в землю зарою! На кол посажу! На каторге сгною!
Коней из конюшни выгнали в ночное ещё до пожара, спаслись кони. Сами конюшни взялись огнём, но одну отбили люди. Уцелела та, где молодняк, необъезженные жеребята стояли. И имение отбили, хотя пристройка, где жила прислуга, всё же сгорела. А она стояла на задворках, почти рядом с барским домом. До сеновала пламя не достало: далеко. Хорошо, сложили сено умно: вдали от строений, вот и уцелело. Так бы и овины дальше друг от дружки строить надо было. Так, вишь, хотелось, чтоб в одном месте. Мол, ловчее…
– Ну и кто это сделал, не слыхать? – поинтересовался кто-то из молодиц. – Что говорят никодимовские? Поле ворует – лес видит. Неужто никто и ничего не видал, не слышал?
– Господь наказал, – снова прошамкал всё тот же старушечий голос. – Бога забывать стал, антихрист. Заутреннюю пропускать начал. Лень лба лишний раз осенить, безбожник. И жёнка евойная прислугу забижает почём здря, а ты говоришь.
– Помолчи, бабка. Ты ж там не была и заутреню в церкви с Прибыльским рядом не стояла. Дай сведущих людей послушать.
– И ты такой же нехристь, – не сдавалась старуха. – А жёнка евойная – сволочь ещё та! Похлеще самого барина будет, шалава!
– Поджог был, – уверенно произнёс один из пожарных – Самохин Василий, молодой, крепкий мужик. – Грамотно ктой-то петуха пустил барину. Из двух мест взялось, надёжно. Лучше не придумать.
– Сказывают люди, что к вечеру заезжал до барина Петря на бричке. Ссора меж них прошла. Из-за чего? Не ведомо. Однако дрались барин с Петрей. Сначала Прибыльский гостю в харю съездил, тот к верх ногами сучил. А потом хозяину по сусалам хорошо попало, кровёй умылся. Сидел после под овином, крутил башкой, в себя приходил, сопли на кулак наматывал.
– Да-а, вот теперь и думай, – рассудил чей-то мужской голос. – А барину вон какой убыток, если что. Не дай Господи такого урона.
– Оклемается, – заметил кто-то из толпы. – Это нам с тобой убыток был бы, а Прибыльскому – так, мелочи.
– Так оно, так. Петря – энтот может, за энтим не заржавеет. Всю округу на ушах держит, чёрт хромоногий. Давеча у монопольки с мужиками пьяными песни орали, куражились, к бабам да девкам непристойно приставали.
– Небось, опять шальная деньга попала, вот и куражились, вот и орали.
– С трудов праведных не покуражишься, – рассудительно заметил Матвей Макарович. – Тут бы концы с концами… Разве что на святой праздник, и то с оглядкой стопку-другую и шабаш! Не до веселья.
– А какие дела могут быть меж Петрей и барином?
– Бандитские, тёмные, – уверенно ответил кто-то из мужиков. – Ни для кого не новость, что тот, и другой – разбойники с большой дороги, два сапога – пара, одним словом. Такие друг дружку видят издалека.
– А откуда взялся этот Петря?
– Ветром надуло, – хохотнул голос из толпы.
– Такое добро не сеется, не пашется, а само родится. И не тонет. Но обязательно к нашему берегу прибивает, – под общий хохот закончил говоривший. – Нюхайте и не кашляйте, православные!
Люди, удовлетворив любопытство, выговорившись, стали расходиться по домам. На востоке уже заалело, то тут, то там по деревне кричали к рассвету петухи.
Тит отыскал в толпе девчат и молодиц Анку, протиснулся ближе, тронул за рукав.
– Анка, – зашептал над ухом. – Подь сюда, дело есть, – мотнул головой в сторону.
Девушка ещё с мгновение колебалась, потом, словно нехотя, двинулась за парнем.
– Какие могут быть дела средь ночи, – тихонько незлобиво ворчала Анка. – Да и утро скоро, коров доить надо, а ты… с вечера почему тебя не было? Вот бы и рассказал про свои дела.
Парень молчал, увлекая девушку всё дальше и дальше от людей, поминутно оглядываясь назад. В какой-то момент он заметил, как из толпы отделилась высокая, крепкая фигура Ваньки Бугая.
– Что? Опять Ванька? – тревога парня передалась и девушке.
– Он, сволочь, – сквозь зубы процедил Тит.
– Бежим! – шепнула Анка и первой кинулась в проулок.
Следом за ней, не отставая, бежал парень. На повороте перемахнули плетень, зажались в угол, затаились.
Слышно было, как Ванька тяжело дышал, матерясь, пробежал до конца проулка, вернулся назад.
Он обнаружил их в последний момент. Уже вышел на деревенскую улицу, но что-то заставило его обернуться. В это время Тит привстал из-за плетня.
– А-а, Гу-у-уля, вот ты где. Не уйдёшь от меня!
У Тита была фамилия Гулевич, вот почему все в деревне называли его Гулей.
Расставив руки, набычившись, Ванька пошёл на Тита.
– Бежим, бежим! – тормошила за руку Анка, однако парень словно прилип к земле.
Насупившись, молча ждал.
– Ну, чего ж ты стоишь, дурачок? Убьёт ведь, – девушка уже толкала парня, принуждая его бежать.
Но он лишь отмахнулся от неё.
– Не всё же время бегать. Пора и меру знать.
Ванька Бугай не перепрыгивал плетень, а наступил, повалив его, подмял ногами под себя, и сразу же набросился на парня. От первого удара в грудь Тит отлетел, больно ударившись о землю.
Не торопясь, уверенный в собственной силе и закономерной, явной победе над более слабым противником, Ванька глыбой надвигался на поверженного Тита.
Не обращая внимания на сильную боль в груди, руки в отчаяние шарили по земле, нащупали небольшой, но увесистый булыжник. Схватив камень, парень резко подскочил, и уже ожидал соперника стоя.
– Не жилец ты, Гуля, не-жи-лец! – угрожающе произнёс Ванька, приближаясь к Титу. – Ноги повыдерну, головёшку отверну, сучонок. Забудь Анютку: она моя, ты понял, моя-а-а!
– Не подходи! Убью!
Видно, всё же Иван что-то почувствовал в словах противника, потому как замешкался на мгновение. Обернувшись к плетню, рывком выдернул кол, замахнулся из-за плеча…
Но и Тит был не из робкого десятка. Таскавший на собственном горбу с раннего детства мешки с мукой да зерном вверх-вниз по лестницам мельницы у пана Прибыльского, приученный к тяжёлому крестьянскому труду, поднаторевший и набравшийся бойцовского опыта во многих сельских драках, считался не последним человеком по силе и выносливости в деревне Горевке, надёжным и верным товарищем в потасовках.
Вот и сейчас, не дожидаясь очередного удара нападавшего, Тит, упреждая, бросился навстречу, подпрыгнул, и уже в прыжке нанёс сильный удар сопернику зажатым в руке булыжником. Попал в голову, в висок.
Издав тяжёлый выдох, Ванька Бугай ещё с мгновение смотрел недоумённо на противника, потом ноги подкосились, стал оседать на землю, выронив кол. Кровь ртом пошла, тоненькая струйка побежала из ушей, лицо взялось мелом. Тело раз-другой дёрнулось, застыло.
…Тита Гулевича забирали из дома утром. Запряжённой в бричку лошадью правил пожилой усатый полицейский урядник с саблей на боку и пистолетом в кобуре. К аресту парня отнёсся с пониманием, позволил ему проститься с матерью, с младшей сестрой, собрать котомку. Даже не стал удерживать или препятствовать, когда Тит забежал в хлев, погладил коней, корову, присел во дворе перед собачьей конурой, потрепал пса за ухом.
Уже на улице парень то и дело крутил головой, всё выискивал кого-то, ждал. Наконец, весь встрепенулся, подался навстречу бегущей к нему девушке в серой, приталенной кофте, длинной, в оборках, юбке. Цветастая косынка была зажата в руке, и потому трепыхалась на бегу, будто готовая взлететь. И снова полицейский проявил терпение, курил, пуская дым с ноздрей, даже отвернулся, стараясь не глядеть на арестанта.
– Я буду ждать тебя, Тит, чтобы с тобой не случилось, сколько Богу будет угодно. Ты только верь мне, Титок, милый, – не стесняясь молвы, девушка кинулась на шею, заголосила, запричитала на виду всей деревни.
Мать, младшая сестра тоже повисли на парне, добавили свои голоса. Прошка, другие деревенские парни и мужики, бабы собрались в сторонке, стояли, насупившись, молча наблюдали, шмыгали носами.
– Ну, будет, будет, – урядник выбросил окурок, тщательно растёр о землю каблуком сапога, подошёл к Титу. – Всё, паря, всё-о-о! Пора и честь знать.
Достал откуда-то верёвку, надёжно связал арестанту руки спереди, другим концом прикрепил к бричке.
– Пешком пойдёшь. Убивцам не положено ехать.
Мужики и парни подходили по очереди, хлопали по плечу, некоторые пожимали руки: прощались.
Охранник тронул коня, но и сам не сел в бричку, тоже шёл рядом. Сельчане проводили Тита до деревянного мостка через Волчиху. Анка прошла ещё дальше, остановилась уже на шляхе, что ведёт в уездный город из Никодимово.
– Я буду жда-а-ать! – успела крикнуть на прощание, сунув в карман парню косынку.
Тит только обернулся назад, но сказать что-либо в ответ так и не смог. В горле запершило, сжалось, встало комом. И на душе было так гадко, так пакостно, хоть волком вой. Обида глушила, не давая поднять глаза. Лишь скрежетал зубами.
Шлях представлял собой изрезанную колёсами на колеи насыпную грунтовую дорогу, еле-еле возвышающуюся над окрестными полями. Ямы на ней были кое-где заделаны глиной с песком и камнем. По обеим обочинам белели узенькие стёжки, вытоптанные не одним поколением путников. Полынь и чернобыл, редкие и жиденькие кусты лозы росли вдоль тропинок.
Дорога петляла параллельно речке Волчихе по правому берегу, с точностью повторяя все её изгибы и повороты. Там, на той стороне реки тянулись болота с редкими чахлыми березняками. Изредка попадались гривы, обильно заросшие густой травой с высокими стройными соснами. Ближе к болоту, по краю гривы чаще всего росли ольха, чахлые березки, лозняк. Кое-где бугорки суши среди болот облюбовали дубравы. Но это уже ближе к соседней деревне Никитихе, откуда начиналась возвышенность, исчезали топи. Там, за Никитихой, в пяти верстах от неё, и находился уездный городок, один из многих уездных городков Смоленской губернии.
По правую руку стояли поля с редкими колками. Сплошной лес был еле виден вдали, синей стеной постепенно огибая уездный город уже за горизонтом, там, где впадает Волчиха в Днепр.
Чаще всего бричку обгоняли пролётки, кареты; в попутном направлении ползли тяжёлые возы сена, соломы; везли лес, дрова; шли обозы с зерном. С торбами за спиной, с узелками в руках спешили в город путники. Иногда они нагоняли подводу с Титом, норовили пройти вместе, поговорить. Но тогда урядник встревал в разговор, строго отсекая всякие контакты посторонних с арестантом.
– Не положено! Проходи мимо, – отгонял излишне любопытных.
– Так, чай, не чужой ведь, – пытались некоторые особо любопытные разжалобить охранника. – С суседей, с Горевки хлопец-то. Батьку его я хорошо знал: мельницей управлял ещё у старого Прибыльского. Добрый человек был. И мельник честный. А это в наше время ого-го! И парниша хорошую мельничку сварганил. Да жаль, злой человек порушил. За что ж его-то, горемычного?
Но полицейский был непреклонен.
– Не положено! А будешь надоедать, мешать исполнять служебные обязанности мне, арестую и тебя. Вот в застенке и наговоритесь.
Отставали, однако, на прощание совали в руки Титу то яблоко, то краюху хлеба, пирожок, сухари, а то и шматок сала. Подаяния парень не отвергал, не отказывался, а заботливо складывал в торбу, что висела через плечо.
Тит не забывал благодарить земляков:
– Спасибо, людцы добрые, – не поднимая головы, произносил слова благодарности и шмыгал носом.
Вот тут стражник делал вид, что не замечает, даже отворачивался в такие моменты. Перед этим, сжалившись, развязал руки арестанту, позволив идти свободно.
– Смотри мне, – только и сказал.
Встречные останавливались, долго провожали недоумённым взглядом, качали головой, крестились сами, осеняли крестным знамением спину арестанта.
– Упаси, Господи, упаси… огради, Матерь Божья… от тюрьмы это… и от сумы, царица Небесная… За что ж это страдальца?
Полицейский строго махал пальцем любопытным, а потом уж один-на-один говорил Титу:
– Бери-бери, что дают. Тюремная баланда… она и есть баланда. Не скоро попробуешь хлебушка домашнего, парень. Зачем мужика-то убил?
– Пусть не лезет, – односложно отвечал Тит.
– Из-за девки?
– Ага.
– Которая провожала?
– Она самая.
– Красивая и сочная девица, – задумчиво произнёс урядник. – За неё можно и грех взять на душу, – и тут же утверждал совершенно противоположное:
– Хотя… все они, бабы, одинаковы. И всё у них одинаково: и титьки, и это… да всё такое же, как и во всех иных баб да девок.
– Не-е, Анка – лучшая, – не соглашался Тит.
– Ну-у, тебе виднее, – не стал спорить полицейский. – Оно, когда втрескаешься по уши, тогда конечно – лучшая. А всё равно зря мужика убил.
– Я не хотел.
– Хотел, не хотел, это теперь роли особой не играет. Мужика-то нет, помер. Хорошо-то, что не мучился. Сказывают твои соседи, что мгновенно окочурился хлопец. Видно, хорошо ты ему стукнул, не жалея. Это ж надо: японскую войну прошёл, выжил мужик в боях страшных с япошками, а дома из-за бабы… того… этого. Вот оно как в жизни бывает, – с сожалением и осуждающе закончил стражник.
Дальше шли молча. Иногда урядник садился в бричку, подъезжал.
– Ноги, холера их бери, – как будто оправдывался перед арестантом. – Доктора говорят, что ходить надо чаще, тогда в коленках не так крутить будет. Мол, клин… это… клином. Вот и хожу. Но бывает невмоготу, что хоть на стенку лезь от боли, да хоть куда залезешь, когда она, окаянная, допечет, не только на телегу взберёшься. Приходится подъезжать. А куда деваться? Вроде как отпустит, полегчает, тогда снова пешим ходом. Вот и сейчас.
Версты за две до уезда у журчащего чистого ключа, что пробил себе дорогу к свету в небольших зарослях лозы вперемешку с репейником, полынью и крапивой недалеко от речного берега, охранник остановил лошадь. К родничку была протоптана стёжка, трава под кустами примята, а местами и вытоптана до самой земли, и сама земля блестела голыми проплешинами. Почти все путники останавливались здесь, утоляли жажду, остужали натруженные ноги прохладной водицей, давали отдых уставшему телу, а то и трапезничали на скорую руку, чем Бог послал.
– Давай перекусим, парень.
Отпустил чересседельник, давая лошади пастись. Она тут же припала к траве, довольно и благодарно пофыркивая.
Перекусывали тем, что было в торбе у арестанта.
После обеда полицейский закурил, подозвал к себе Тита, заговорил доверительно, облокотясь на бричку:
– Ты, парень, на допросах не говори, что из-за девки убил мужика. Говори, что оборонялся. Мол, почуял, что он тебя колом пришибёт. Он же первым с колом пошёл на тебя?
– Да. Так и было.
– То-то и оно. Вот и схватил камень, в защиту себя встал, оборонялся. Оно, и так сидеть, и так посадят, однако, тогда меньший срок дадут. Стой на своём, даже если пытать станут. Ты молодой – отсидишь маленько, да и выйдешь на волю. Не переживай, и в тюрьме, и на каторге люди живут. От сумы это… не зарекайся и от тюрьмы. Вот оно как серёд нашего брата. Да, и ещё скажи, что камень ты нашёл, споткнулся о камень, вот и поднял.
– Когда он меня с ног сбил первым ударом, вот тогда я и упал прямо рядом с этим камнем. Под руку попал булыжник, когда я на земле лежал.
– Тем более, – утвердительно кивнул полицейский. – Вот и стой на своём, чтобы с тобой не делали.
Снял с дышла деревянное ведро, ополоснул, потом из родника ковшиком наполнил до краёв. Отнёс коню. Терпеливо ждал, пока животина напьётся.
– Но-о-о, пошла, шалая! – и только после этого дёрнул за вожжи, тронулись дальше.
Всю дорогу Тит шёл как не своими ногами. До последнего не верилось, что это произошло именно с ним – Гулевич Титом Ивановичем. Казалось – сон это. Страшный, но сон. Вот сейчас проснётся, откроет глаза, скажет, глядя на окно: «Куда ночь – туда и сон», и всё прервётся, закончатся кошмары, будет светлое и чистое пробуждение. И снова первой мыслью подумает о мельнице, о своей мельнице. И тихая волна радости и умилённой благодати укутает душу, мягко коснётся сердца, вышибая слезу из глаз. Будет радостное пробуждение, будет ожидание ещё большего счастья. Как же, в двадцать лет он стал владельцем самой настоящей, своей, личной водяной мельницы! Её начали строить ещё с отцом, а заканчивал уже он один: батька умер в этом году по весне в самый паводок. Походил по талой воде, всё запруду поправлял, всё ладил, вот и застудился, не встал более, а потом и помер перед святой Пасхой. Но и умирая, просил Тита отвезти его на мельницу, положить у жерновов на стеллаж из досок, куда складывают мешки с зерном перед тем, как высыпать в бункер, а затем пустить в ящик-дозатор с заслонкой, которой регулируют подачу зерна на жернова.
– Хочу, сынок, умереть на своей мельничке. Душа моя радоваться станет, прощаясь с телом, с делами земными. Ведь иметь собственную мельницу – не только моя мечта, а мечта всех поколений Гулевичей. Её, мечту эту, передал мне мой родитель, а ему – его. Сколько поколений мечтало, а выпало счастье нам с тобой, сынок. Гордись! Вот только жаль, что духом хлебным не захлебнусь на прощание. И всё равно это ж благодать Господня умереть здесь. Так что, уважь, родимый, исполни мою последнюю волю, – блаженно улыбался старый мельник перед смертью.
Уважил батю сын.
Там и умер отец, у жерновов Богу душу отдал с улыбкой на устах.
Пришлось сыну самому достраивать, доделывать, доводить до ума. Сделал. Провёл и пробный помол. Мелет хорошо, тонко, чисто. Лучше, чем на ветряной мельнице Прибыльских. Жернова-то вместе с вертикальным валом заказывали и везли аж из самого города Смоленска! Оттуда же привезли и водяное колесо, обшитое тонкой жестью с такими же лёгкими металлическими лопастями для нижнего боя: износу не будет. Сам горизонтальный приводной вал с шестерней-маткой тоже брали в Смоленске. Не стали делать у себя: заводской надёжней. И не прогадали. Вот и мололи жернова чудно, на зависть. Отдельно изладил крупорушку при мельнице, проверил её в работе, и снова получилось так, что душа пела от счастья. Вот что значит хорошее оборудование на мельнице!
Мечтали с отцом поставить дополнительное колесо и пристроить к мельнице пильню и сукновальню. Леса вокруг, материала в избытке, сколько ж можно вручную доску пилить? За шерсть и речи нет. Специальный журнал выписали из самой Москвы-города. Там всё сказано, что и как с сукновальней, с пильней. Но… не судьба!
Готовился к помолу нового урожая. Сколько надежд возлагал на него, какие только мечты не приходили в голову?! Уже мужики из Горевки, из Никодимово приезжали на мельницу для знакомств. Мол, самим лично посмотреть надо, руками пощупать, что и как тут будет, каков помол. А то вдруг из новой мельницы муку хозяйки не примут, забракуют, не по нраву будет? Вдруг тесто грубым получится, плохо подходить станет? Со старой мельницы привыкли уже. А тут новая. Сомнения – куда им деться среди крестьянского люда? Да по какой цене молоть решил Тит? Деньгой брать будет или мучицей? Иль зерном может? Много ль хлебушка за помол себе оставлять станет? Так же как и у Прибыльского иль чуток поменьше? Тот-то с пуда зерна без малого четыре фунта чистой мучицы забирал.
Гулевичи ещё при живом отце решили брать с давальческого зерна по два с половиной фунта муки. Посчитали, что так и сами в накладе не останутся, и народ должен быть доволен. Всё же сэкономить полкило муки с пуда зерна – это не кот начихал. Но и жадничать не след. Проклянут люди, не рад будешь этой мучице, поперёк горла калач встанет. Да и не по-христиански это.
По такой оплате с голоду семья Гулевичей не помрёт – это уж точно, ещё и в хороших барышах будет, а если добавить в семейные закрома муку из пшенички, что вызреет на собственных десятинах, так куда с добром! Ещё и излишек можно будет продать в уезде на ярмарке. Продать зерно – это половина дела, это – от безысходности, от нужды. Мучица – вот это уже товар, что надо! Конечный продукт в крестьянской работе. И цена муки – неровня зерну. А ещё лучше – хлебушек! Пекарню можно было открыть. Благо, в окрестности нет её, разве что в уезде есть. А в волости – нет.
Хорошая слава шла о новых мельниках, хорошая. Даже несколько раз приезжали из деревни Никитихи, что рядом с уездным городом, тоже интересовались, обещались привезти зернецо. Молва о новой мельнице быстро разнеслась по округе.
Да-а, планы строили…
А третьего дня под утро прибежал от мельницы мальчонка, младший брат Прошки Зеленухина – Илюшка. Он подсобным рабочим был там, помогал. Весь дрожит, в слезах. Незнакомые люди налетели средь ночи на мельницу, связали дядьку Николу, что за сторожа был. Он, Илюшка, ускользнул, скрылся в темноте, затаился в камышах на заводи и уже оттуда наблюдал.
Порушили запруду разбойники, спустили воду, раскатали по брёвнышку мельницу, а что не смогли – облили керосином и подожгли.
Когда Тит прилетел на жеребце к мельнице, спасать уже было нечего: догорала. Вокруг лежали разбросанные брёвна. Лишь колесо и горизонтальный вал уцелели.
Успел только услышать голос с хрипотцой одного из бандитов, увидеть довелось в лунном свете, как бежал он, хромая, до брички.
Кинулся, было, вдогонку, так вот незадача: на полном скаку жеребец попал в ямку, что вырыли кроты, сломан ногу. Беда не ходит одна. Слава Богу, сам уцелел, только больно ударился о землю. А жеребца пришлось убрать: хромой конь в хозяйстве – обуза.
Рано поутру обследовал всю местность вокруг мельницы. Обратил внимание на следы от сапог: Один след полный, а второй – только носок сапога. Пятки не было, не оставила следа пятка на правой ноге. Уверовал ещё больше Тит в тот момент, что один из бандитов слишком приметный: хромой и голос с хрипотцой. Именно его видел средь ночи тогда на мельнице. Искать станет лиходея по этим приметам. А из хромых в бандитах ходит только Петря. Об этом разбойнике Тит слышал с год тому: у всей округи на устах был, вот только встретиться не доводилось. Бог миловал, не пересекались до этого случая пути-дорожки хлебороба и бандита.
Сразу же поспешил в волость, в Никодимово. Обсказал всё как есть в околотке. Так даже слушать не стали. Околоточный смерил презрительным взглядом взъерошенного просителя, процедил сквозь зубы:
– Тут и без тебя дел невпроворот, чтобы твоими мелочами заниматься. Новую мельницу построишь. Ничего не украли, никого не убили. Та-а-ак, пошалил кто-то малость, а ты в околоток сразу. Шалостями полиция не занимается. Жил ведь раньше без мельницы, и дальше без неё проживёшь. Хлопот меньше будет, – зло пошутил и быстренько выпроводил Тита на улицу. – Может, по пьянке сам же и сжёг, а сейчас опомнился, страдалец, – прокричал вдогонку. – С больной головы на здоровую переложить хочешь.
К волостному старшине зашёл, тот даже на порог не пустил. Занятым оказался. Волостной писарь взашей вытолкал из канцелярии, обругал в спину:
– Шляются здесь кто не попадя да кому не лень, работать мешают. Неча было заморачиваться… Хлопот бы меньше…
Понял тогда Тит, что никому он со своим горем-бедою не нужен: ни волостным властям, ни полиции. Вся надежда только на себя: на свои руки, на свою голову. С тем и ушёл.
Всякое передумал: кто бы мог стоять за разбойниками? Ну, не могли же они за здорово живёшь, запросто так, поехать в ночь за три версты от деревни на пустую мельницу?! Ладно, была бы уже мучица там иль зерно, дело другое. На муку с зерном позарились. А так? Пришёл-таки к мнению, что это дело рук барина Прибыльского. Его рук дело. Несколько раз он сам лично верхом приезжал, смотрел, как строится мельница. Общался с батей, отговаривал. А потом и стращал.
– Чего тебе, Иван Назарович, не хватало у меня на мельнице? Мало платил? Так в чём вопрос? Скажи, чего тебе ещё надо, добавлю.
– Нет, барин. Того, что мне надо, вы дать не сможете. Это деньгами и пудами муки не измерить.
– Чего же? А вдруг смогу?
– Воля, воля мне нужна, благодетель. Надо, чтобы мельница была моя, вы понимаете? Мо-я-а! И земля моя! Чтобы моя мельница на моей земле стояла. Хозяином хочу быть!
– Смотри, чтобы волей своей не захлебнулся, дурак старый, – вышел из себя барин. – Умишка-то Бог не дал, а ты о воле речь завёл. Подохнешь с голоду, но обратно на мельницу не возьму.
– Спасибо, благодетель, – смиренно отвечал старый мельник. – Коль и помру, то на своей земельке, при своей мельничке. А это для меня – благодать Господня. Вот как, барин. Не надо меня стращать. Это, может, мечта моя – умереть на своей собственной землице. В радость та кончина будет. Не каждому дано понять, но это так. А с голоду мы, Гулевичи, никогда не помрём. Знаете, почему? – и, не дожидаясь ответа барина, продолжил:
– Наш род рождён в трудах праведных. Мы знаем цену хлеба, и как он добывается – знаем тоже. И умеем его зарабатывать. Никто нас не уличит в лени.
У Тита тоже разговор состоялся с Алексеем Христофоровичем:
– Пётр Аркадьевич Столыпин позволил вам, сирым и убогим, иметь в личной собственности землю. Так и имейте. Чего вам ещё надо? Паши, сей. Зачем вам лишняя морока с мельницей? Неужели вам с батей не хватала муки с моей мельницы? Я прикажу, и ни один мужик из округи не повезёт к вам молоть. Бесплатно, даром молоть стану на своей мельнице давальческое зерно. Что тогда? Царь с министрами далеко, а я здесь для вас и царь, и бог. И мельница уже есть одна – моя. Хватит, больше не надо нам мельниц. Пока вся округа успевала молоть, жалоб и нареканий не было. А уж если вам так хочется молоть, так поставьте в сенях жернова ручные, да и бог вам в помощь! Мелите, сколько влезет, пока не задохнётесь. А поперек моей воли, поперек моего дела становиться не могите: раздавлю! Сотру в порошок и по ветру пущу. Пропущу живыми между жерновами, и не жить вам больше, не ходить по земле со мною рядом, голытьба тупорылая. Я не позволю покуситься на моё право, право сильного и успешного. Вот и думайте с батькой, где лучше. И над моими словами хорошенько пораскиньте мозгами: вдруг до истины доберётесь?! Но знать обязаны всегда: когда на кон поставлено моё благополучие, когда в мою среду обитания врывается такая голытьба как вы, я за ценой не постою! Помните и соображайте!

