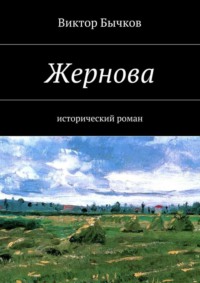
Жернова
– Я не об этом, – вроде как пошёл на попятную мужик. – Я – вообще про крестьянскую жизнь. К хорошему тянет. Вот у меня, к примеру: семь казённых десятин, что для нашей семьи выделила община в Никитихе, не мой размах. Просил пятнадцать. Не дали. Говорят, не смогу поднять. Но они-то меня не знают, парень! Слышь, не-зна-ют! Я, может, и сотню осилю, ума хватит. Не гляди, что тёмный, беззубый да дурковатый видом. Я – сообразительный, вот как. А тут в Сибири дают земельку. Бери, бают, сколь влезет, сколь поднять, освоить сможешь. Вот где раздолье! Были бы крылы, взял бы и полетел в те края. Э-э-эх! Ну, так как, прочитаешь газетку? Смогёшь?
– Попробую, – буркнул в ответ Тит.
– Вот и ладненько. Если правду люди говорят, отсижу в тюрьме-то, да и подамся в Сибирь. Плюнули мне в душу в Никитихе, вот как, паря. Обозлился я на наш народец-то, обиделся. И-э-эх! Да что говорить?! Властя наши только и могут, что до могилы или до тюрьмы доводить простого человека. Вот как оно. А мы, лапотники, всё светлого будущего ждём, чашки для манны небесной наготове держим, рты разинув. И ложку большущую в руке зажали, чтоб, значит, полным ртом манну эту… А сами палец о палец не ударим, чтобы, значит, сделать жизнь лучше. От лени скоро мхом позарастаем.
Камера тихо гудела мужскими голосами. Изредка от нар, где отдыхал Петря, раздавались громкий говор, заискивающие восхищённые вскрики, натянутый смех.
Принесли баланду к вечеру. Арестанты выстроились в очередь со своими мисками да котелками к окошку, что в дверях. Встал и Тит вместе с мужиком.
Вдоль очереди неспешно прохаживался один из лысых прислужников Петри, внимательно присматриваясь к посуде у арестантов. Заметив в руках Тита чисто вымытую металлическую глубокую чашку, жестом потребовал отдать ему.
– Ты чего хочешь, браток? – невинно спросил Тит.
– Чашку! Быстро!
– А я? А мне? – не мог сразу понять Гулевич требований лысого, но на всякий случай спрятал чашку за спину.
– Для Петри! Ты что, не понял, дярёвня? – продолжал наступать лысый. – Ну, быстро!
– Да пошёл ты… – Тит не успел договорить, как противник, не замахиваясь, снизу сильно ударил ему в челюсти.
Клацнув зубами, Гулевич отлетел к входной двери.
На нарах оживились вдруг. Оттуда же с интересом наблюдал за перебранкой Петря с подельником. Все остальные арестанты вмиг разбежались по камере, затаились.
Засунув чашку за пазуху, Тит пошёл на соперника. Тот стоял посреди камеры, ехидно улыбался, нервно подёргивая коленкой. Не обращая внимания на удары лысого, Гулевич схватил его за грудки, оторвал от пола, с разгона припечатал к кирпичной стенке камеры.
– Вот тебе моя миска, браток. Кушай, не подавись, – глядя на безвольно осевшего вдоль стенки лысого, промолвил Тит, вытирая рукавом кровь с разбитых губ.
На помощь лысому кинулся его подельник, запрыгал перед Гулевичем, размахивая руками, но приближаться остерегался.
– Ну, мля! Ну…
– Подходи, чего ж ты? Ещё одним больше станет, – и не понять было: то ли добавится к Ваньке Бугаю, то ли сядет рядом с лысым у стены.
Ни для кого в камере не было секретом, за что арестовали Тита, поэтому, видно, подельник лысого не бросался в драку, а лишь куражился, боясь пополнить любой из списков противника.
Краем глаз Тит увидел, как поднялся с нар Петря, направился к месту драки.
В тот же миг рядом с Титом встал бородатый щербатый сосед, плюнул в ладошки, растёр, принялся закатывать рукава.
– Так, паря, у нас, в Никитихе, не принято своих в беде бросать. Дадим жару. Становись к стенке, прикрывай меня со спины. Трое на одного даже в нашей деревне не ходят.
И уже к троице:
– Ну, кто из вас самый смелый? Вот он я, напрыгивай! Умойся кровушкой, сучий потрох!
Однако драке не суждено было развиться.
Дверь в камеру открылась, вошли двое конвойных.
– Что за шум? Почему отказываетесь от приёма пищи? – спросил один из них, что помладше.
Его товарищ, который постарше, зорким, опытным взглядом окинул камеру, оценивая обстановку.
– Кто вам сказал, друзья-приятели? – прыгающей походкой к ним подошёл Петря. – Здесь не только не отказываются, здесь страстно желают, прямо жаждут проглотить этак порций по пять на брата.
– А-а-а, – протянул старший конвоир, увлекая товарища к выходу. – Смотрите мне, а не то…
– Васильич, а с этим что? – молодой ткнул пальцем в сторону безвольно сидевшего на полу лысого арестанта, из носа которого бежала кровь.
– С ним? – старший ещё раз окинул взглядом камеру, подтолкнул напарника к двери. – Небось, животом мается. Нам какое дело до его утробы? Пошли, сами разберутся. Не маленькие.
– Так… кровь, Васильич! – не отставал молодой. – Смотри, юшкой красной весь умыт. Какой живот? И бледней бледного, как смерть. Тут что-то не то.
– А ты кто, лекарь, что ли, чтобы о хворобе говорить? Сказал требуха, значит требухой и мается. Тут и без них дел невпроворот, а ты ещё заладил, – незлобиво ворчал старший конвоир уже на выходе из камеры, подталкивая в спину напарника.
Конвоиры ушли, дверь закрылась, арестанты снова выстроились в очередь за пищей. Встал и Тит.
В тот момент, когда он сунул чашку в окошко, на плечо легла рука Петри.
– Эй, браток! – обратился Петря к арестанту, что наливал баланду на той стороне двери. – Плесни на двоих, – и указал на чашку Тита. – Полную и гущу со дна. Не жадничай. Ты не возражаешь? – тут же повернулся к Гулевичу.
– Так… это… – опешил Тит. – Хотя… нет, чего уж…
Первым ел Петря. Ел аккуратно, не хлебал, не втягивал шумно баланду, ел тихо, то и дело касаясь деревянной ложкой края чашки, не давая каплям упасть на столешницу. Тит сидел рядом, уставившись в исчерченный, изрезанный стол, что стоит посреди камеры, терпеливо ждал.
Потом принимал пищу Гулевич, а Петря не ушёл, остался сидеть за столом, задумавшись.
«С чего это он со мной из одной чашки? Неужто догадался или как-то узнал? – тревожные мысли терзали Тита. И тут же успокаивал себя. – Откуда? Как он мог догадаться? Ни одна живая душа не видела. А если и узнал, и что?».
Когда закончили ужин, Петря пригласил Тита:
– Пойдём ко мне, поговорим.
– Мне и тут неплохо, – отказался от приглашения Гулевич. – Если хочешь, то садись со мной рядышком. Места у стенки на полу всем хватит.
– Я не гордый, – Петря спокойно отреагировал на далеко недружелюбный тон Тита. – Можно и у стеночки. Чего уж…
В углу камеры на нарах один из лысых арестантов колдовал над товарищем, делал примочки, накладывал на лоб мокрую тряпку, что-то тихо говорил ему, изредка бросая недовольные взгляды в сторону Петри, который уже сидел рядом с Титом у стенки. С другой стороны пристроился щербатый мужчина из Никитихи. Снова достал иголку с ниткой, опять принялся штопать холщовые штаны прямо на себе, не снимая, тихо матерясь, то и дело, бросая подозрительные взгляды на нового соседа:
– И что за народ наш такой, что даже в остроге не могут обойтись без битья морд? Мало того, что тебя воли лишили, так ещё каждый норовит верха над тобой взять, верховодить пытается. А то и скулу набок свернуть. И когда только русский мужик станет сам себя уважать?
– Ишь, ты! Философ, – иронично заметил Петря. – А чего ж ты в стенку встал? Сидел бы себе спокойно, наблюдал бы со стороны. Значит, сам напрашивался на драку?
– Ну-у, дык… – мужчина нервно заёрзал на полу. – Ну-у… дык… по закону должна быть драка, по правилам. А тут три бугая на одного парнишку. Так нельзя. Вот и не сдержался. Да и свой малец, наших людей будет. Его Горевка в верстах десяти от моей Никитихи стоит, знать, сосед он мне. А иной сосед лучше брата родного, во как. Тем более, здесь, в тюрьме, без такого родства вряд ли выживешь, как я понимаю. Тут без поддержки, без крепкого плеча верного товарища никак не обойтись. И своих это… грех в беде оставлять.
– А кто ж эти трое злодеев? – Петря обвёл взглядом камеру. – Неужели и меня к ним причислил, страдалец? – и кивнул в сторону нар.
– Ну-у… дык… Вы же втроем сидели, друзья-товарищи, стало быть. А парнишка-то один, вот какое дело. У нас в Никитихе так не принято: втроём на одного. За это и в морду можно схлопотать, между прочим, не рассуждая, кормилец. Это чтоб ты знал, если что. Один на один – всегда пожалуйста! С удовольствием и вашим почтением. Бейте друг дружке рожи, сколь сможете, сколь душе того… этого… а по-иному не моги! Не то харю в другую сторону повернём, и страдания петь заставим, вот как. За нами не заржавеет. Нас пьяный поп крестил в Никитихе, если что. Потому и отчаянные мы.
– Молодец, мужик! Ну, молодец! – воскликнул Петря, не отводя восхищённого взгляда от собеседника, потирая руки. – Вот тут ты правильно говоришь, дружок. Тут я с тобой полностью согласен.
– Да ладно, – мужчина отвернулся. – Нужно мне твоё согласие, как мёртвому припарка.
Тит вначале вроде как прислушивался к перебранке соседей, потом снова одолели собственные мысли. Опустив голову, поджав колени, обхватив их руками, застыл в такой позе, погрузился в тяжкие думы. А как тут не думать? Тут в пору с ума сойти, не то, что… Волком выть готов, лишь бы этот вой помог, смог бы выправить, всё вернуть в старое русло, как было ещё две недели, нет, даже неделю назад: мельница, Анка… Радовался каждому новому дню, просыпался и засыпал с улыбкой на устах.
Как мечтал, какие планы строил, как радовался своей земле, мельнице! С Аннушкой обговаривали будущее, о детишках речь заводили. И почему так устроена жизнь, что в один момент рушится опора под ногами? Чем прогневил Бога Тит Гулевич, за что свалились на его голову все несчастья, за какие грехи? Прыщавый следователь говорил сегодня на очередном допросе, что за убийство Ваньки Бугаёва согласно Уголовному Уложению от 1903 года отправят Тита на каторгу аж на двадцать годочков! Во как! Это, мол, за то, что Тит заранее обдумал, замыслил соперника убрать со своего пути. Значит, прыщавый уже побывал в Горевке, разузнал всё. Неужели кто-то из сельчан навёл напраслину? Никогда и никому не говорил, даже самому себе в мыслях не держал зла на Ваньку. Но следователь утверждает, что готовился убрать с дороги соперника. Однако ж Тит ничего такого не замышлял. Да и как можно было на Ваньку Бугая сердиться, замышлять что-то плохое против него, если Иван хороший?
Именно он, Ванька Бугай помогал устанавливать жернова на мельницу, ворочал один за пятерых мужиков. Отец не мог на него нарадоваться, когда Иван ухватил вертикальный вал, установил в нижнюю шестерню и удерживал до тех пор, пока вал не закрепили жёстко и строго вертикально. А ведь это была самая трудоёмкая работа, которой отец побаивался, не знал, как приступить к ней, как справиться. Леса собирался ставить, толоку созывать, чтобы удобней и наверняка… А Ванька сладил! Один! За что ж на Ваньку-то зло держать? Хотя, если не кривить душой, то Тит всё же злился на Ивана, однако, чтобы убить?! Нет! Такого и в мыслях не было. В страшном сне, в бреду прийти в голову не могло.
Парень ещё и ещё раз перебирает в памяти все свои мысли, чувства, и приходит к выводу, что не хотел, видит Бог, не хотел убивать. Так получилось… И зачем он этот камень… Не послушал Анку, не убёг, а надо было. Так, вишь, гордыня взыграла, мол, сколько можно убегать, пора и честь знать. Но и с другой стороны: Тит не под плетнём найден, и гордость имеет, и Бог силой не обидел. Так что, как не крути, а кто-то из парней должен был когда-то уступить дорогу. Но вот так, таким путём? Упаси, Господь! Однако ж…
– И-и-э-эх! – парень и не заметил, как заскрежетал зубами от бессилия, издав тяжёлый вздох, раскачиваясь из стороны в сторону. – За что, Господи-и-и? – почти выл Тит у стенки. – И человека жизни лишил, и себе поломал, вахлак, прости, Господи. Это ж только через двадцать лет вернусь в Горевку, если не сгину на этой проклятой каторге.
Кого винить? Как жить дальше? И стоит ли жить? Может, голову в петлю, да и конец мучениям? Это ж и позора сколько перетерпеть придётся, а на сердце, в душе какая тяжесть? Как с этой грешной ношей жить?
Батя помер, и горе-беда как будто из мешка выскочили и прибежали к Титу, навалились на его бедную голову. Дома мать с сестрой Танюшкой остались. Сестра на выданье. А кто её сейчас засватает, если невеста – сестра убийцы? Это ж пятно на всю семью, на весь род. Заработать, получить это пятно можно за мгновение. А вот стереть? Годы нужны, десятилетия. Не одно поколение сменится, пока люди забудут. Если и возьмёт кто замуж, так в лучшем случае вдовец с детишками мал-мала меньше на руках. Мало того, что свою жизнь испоганил, так ещё и сестре родной подгадил.
На произвол судьбы семью бросил. Каково-то семье? И как с пятнадцатью десятинами земли управится мать? Хорошо, что не все под пахотой: шесть десятин, что вдоль речки Волчихи, оставили под луга: больно сенокосы там хорошие. Скотину кормить будет чем, не будет дрожать рука, когда в ясли животине корма кидать станут. Излишки можно и продать, если на ярмарку в уезд отвести.
А на оставшиеся десятины две пары волов, два молодых коня, обученных только этой весной, мерин, жерёбая кобылица. В хлеву стоят две коровы, овцы, свиньи, домашняя птица. Да, есть плуг, лобогрейка, конные грабли, бороны. Но как? Как две женщины – старая и молодая, – смогут хозяйствовать без мужских рук? Это ж и за плугом ходить надо, а на уборке сладить с парой лошадей в лобогрейке? Коренник не обучен для пары, пристяжная молодая. Их ведь ещё надо обучить, чтобы они привыкли друг к дружке, к тяжкому труду, втянуть в работу надо молодняк. Спасибо, волы приучены к работе, справные, тяговитые.
Пары готовить, озимую рожь сеять надо. Тут доброму мужику еле-еле… Хорошо бы Прошка Зеленухин с братом своим меньшим Илюшкой не отвернулись от Гулевичей, остались бы в работниках. Как-никак, а мужики. Притом, работники толковые, не воры и не лодыри. А это по нынешним временам дорогого стоит. И вроде как Прошка неровно дышит при виде Титовой сестры. Пусть бы уж и породнились. Тогда и проблемы многие отпадут.
И-и-эх! Самому бы всё организовать, хозяйствовать.
Только-только вкус к жизни почувствовал, так видишь…
А тут мельницу уничтожили, порушили мечту нескольких поколений Гулевичей. Вот беда так беда. Кто ж в этом виноват? – снова и снова спрашивал себя Тит и вроде находил ответ, но тут же сомневался в нём.
Так сложилось? Злой рок? Судьба?
Однако всё же выходило, что виноват во всех бедах в первую голову Прибыльский Алексей Христофорович, так считал Тит. Он, именно он сжёг мечту, выбил почву из-под ног рода Гулевичей. Петря? Так это исполнитель барской воли: деньгу дали, указали что сделать, вот и сделал. Сам бы он вряд ли. Кто платит, того желания исполняет. Обычный разбойник без царя в голове. У таких людишек нет за душой ничего святого, живут не лучше бесхозной собаки: нашёл кость – съел, и снова рыскает по округе, где бы что украсть, поживиться, натолкать утробу. У другой собаки кость увидит – отберёт.
– Да-а-а, – Тит поднял голову, окинул взглядом камеру. – Да-а-а. Тут тебе, бабушка, и Юрьев день. И управы нет на барина, вот ведь какая штука. И сам обратной дороги не вижу. Встрял, так встря-а-ал.
От тяжёлых мыслей отвлек монотонный говор щербатого мужика из Никитихи:
– Был, был мой старший сынок на войне. А как же. На Руси всегда так: крестьянину земли царь не даёт, изо всех силов его притесняет, куражится над ним, издевается да изгаляется, а вот на защиту России зовёт. И зовёт – то в первую очередь. Вот ведь какая штука. Они, горетные крестьяне, за Русь, за земельку русскую первыми головы свои складывают, а что взамен? А, я тебя спрашиваю? Могилка в землице русской и всё?! Что взамен кроме могилки? – мужик тыкал обкуренный, заскорузлый палец в грудь Петри, будто он – это самый что ни на есть самодержец всея Руси. – При жизни-то что получает крестьянин? Ты ему сейчас дай захлебнуться запахом свежевспаханного собственного надела, дай сердцу крестьянскому затрепетать от умиления на урожай свой, своими руками выращенный, глядя. Дай присесть мужику на краю собственного надела с приятной дрожью в ногах и руках от трудов праведных, дай душе его крестьянской замереть от восторга, от счастья за жизнь распрекрасную на Руси. Вот тогда он с ещё большей яростью порвёт, изничтожит любого ворога, кто на Русь посягнёт. Хотя… хотя и так русский мужик завсегда впереди при защите… того… этого… вот как, – мужчина чуть ли не кидался на собеседника, настолько вошёл в раж. – Чего молчишь? Ну и молчи, коль не знаешь, что сказать. Но вот наконец-то смилостивился царь со своими министрами: дали землю. А что толку?
Однако Петря молчал, лишь с интересом смотрел на соседа, кивал головой. И не понятно было Титу: то ли он соглашался, то ли поощрял рассказчика.
– Не знаешь. Правильно! Откуда тебе знать? – с жаром продолжил щербатый мужик. – Ты, по слухам, больше с ножичком из-под мостка промышлял. Иль в тёмном месте богатым бороды брил без их согласия. Где тебе понять хлебороба и защитника земли русской?
– Не скажи, не скажи, страдалец, – оживился сосед при последних словах собеседника. – Ты же меня не знаешь, а такое говоришь.
– Да о тебе только и разговоры среди сидельцев, – не сдавался мужик. – Что ни рассказ, то прямо герой. А говоришь «не знаю». Знаю, так что… Сыну моему за отстреленную руку на японской войне положили из уездной казны пять рубликов и семьдесят восемь копеек. Вот как. Калека, понял? Он сейчас калека, а не хлебороб. А ты ещё спрашиваешь: «Воевал ли кто из моей семьи с япошками?». Конечно, воевал! Как это война без нас, крестьян, обойтись может? А он, сынок мой, как сейчас за соху иль плуг встанет? Кто скажет? Как вилы-тройчатки возьмёт? Как косой прокос пройдёт? Косу отбить-оттянуть не сумеет. Вот то-то и оно. Искалечило государство сыночка, кинуло в морду пять рубликов, и подыхай, Никита, Иванов сын. Иваном меня зовут, – мужчина по очереди кивнул сначала Петре, потом и Титу. – Иван Наумович Хурсанов, во как меня родители назвали, если что. А сына Никитой мы с супружницей нарекли.
На некоторое время троица замолчала, каждый погрузился в свои мысли или прислушивался к гулу в камере.
Вокруг них товарищи по несчастью разговаривали, чинили одежду, искались, попутно неспешно вели свои нескончаемые арестантские беседы, готовились ко сну.
Тит уже знал историю Ивана Наумовича Хурсанова.
Ещё в позапрошлом году, когда Иван выходил из общины, уездный землемер пообещал мужику отмерить семь десятин хорошего чернозёму и в хорошем месте, почти у дома, вдоль речки Волчихи. Но это при условии, если Хурсанов заплатит ему пятнадцать рубликов за эту услугу поверх того, что Иван оплатил уже в уездную казну целых два рубля и двадцать копеек за работу землемера. Однако готов был Иван Наумович отдать такие деньжищи ещё раз, но, вот беда! Не было у него таких денег. Что были, раздал начальству то в волости, то в уезде, пока за землю хлопотал. Коня, пару волов приобрёл, плуг, бороны. А деньги-то не растут в кармане! Их сначала заработать надо. Вот ведь как!
И так, и этак изворачивался хозяин, а пятнадцать рублей добыть не смог. Но и землемер стоял на своём: уже собрался отмерить Ивану землю на краю болота в пяти верстах от Никитихи. И это в такой дали от деревни?! А что такое болото? Оно и есть болото. Ведь не лягушек да осоку собрался выращивать на своей землице Иван Хурсанов, понимать надо.
Клятвенно пообещал мужик рассчитаться с землемером, побожился, расписался в бумажке, что после уборочной страды отдаст эти злополучные пятнадцать рублей. Сдержал слово, отдал как раз на День Казанской иконы Божьей Матери. Все до копеечки.
Однако землемер, подлая душонка, хотя и землю-то выделил хорошую, грех жаловаться, но бумажку с подписью Ивана не вернул, не порвал и не выбросил, а подал её мировому судье. И приписал ещё в том обращении, что будто бы Иван Наумович Хурсанов брал у него, честного служащего уездного земельного ведомства, денежки в долг целых пятнадцать рубликов, а отдавать не желает. Подтверждением тому является расписка. Во как! И стал периодически наведываться к Ивану в Никитиху, требовать несуществующий долг или взамен на расписку отдать ему на утеху младшую пятнадцатилетнюю дочурку Верку. Мол, прокатит он её вечерком в карете, как барыню, и папка не станет больше быть должным ему, землемеру. Больно уж она понравилась этому прощелыге: молодая, статная, лицом приятная.
Волком взвыл мужик от такой несправедливости и неприкрытой наглости, но ничего поделать не мог: мировой судья встал на сторону вымогателя. Бумажка-то Иваном подписана, собственноручно крестик ставил. А все увещевания на мздоимство и похабство в отношении молоденькой дочурки назвал оговором честного человека, государственного служащего и пригрозил строгим наказанием.
Понял мужик, что правды не добьется, а жить обманутым и униженным душа не позволяла. И земля не в радость, коль таким образом за неё рассчитываться надо – дочерью да ложью. Велика цена, неподъёмная.
Что-то в душе было такое большое и больное, необъяснимое, что дороже земли, что не позволяло вступить в сделку с подлым человеком – землемером. Оно же не позволяло пойти на сделку и с собственной совестью.
В очередной приезд землемера к Хурсановым Иван уже сдержать себя не смог: цепом так отходил наглеца, что выбил тому глаз, и что-то сталось с хребтиной. Вот и оказался Иван Наумович в тюрьме. Ни за что, ни про что, за правду, за истину и справедливость страдает. Всяк норовит обидеть работного, крестьянского мужика на Руси. Где справедливость?
…Ждали команды «до ветру», потом перекличка и отбой. Спать приходилось на полу, подстелив под себя какую-никакую свитку. Охрана на ночь не закрывала снаружи зарешёченные узкие окна у потолка, и в камеру набивалось несметное количество комаров, превращая и без того тяжкий сон арестантов в кошмар.
На этот раз Петря содрал тряпки с нар, кинул у стены, где ложились отдыхать Тит с бородатым мужиком.
– Не баре, – только и кинул в недоумении застывшим с открытыми ртами уголовникам.
– Как, говоришь, твоя фамилия? – обратился Петря к Титу, когда уже улеглись у стены на тряпки.
– Гулевичи мы.
– А Фёдор Гулевич кем тебе доводиться?
Тит приподнялся на локтях, повернулся к Петре.
– Откуда знаешь?
– Знаю, раз спрашиваю. Где он? Как?
– Помер Федька. В шестом году ещё умер от ран в Санкт-Петербурге в Николаевском госпитале. Старший брат это мой, – выдохнул из себя парень.
– Та-а-а-ак, – протянул Петря. – Та-а-а-ак. Командиры стрелковых рот долго не живут. А уж взводные и того меньше. Не смог, значит, Фёдор сломать недобрую традицию. Продолжил. Вон оно как, а я-то, дурак… и-э-эх!
Глава третья
По узкой каменистой дороге, что петляет среди серых, мрачных сопок в предгорьях Большого Хингана, с трудом пробирается среди каменистых россыпей одноконный тарантас на рессорах, гремя колёсами с металлическими ободьями, запряжённый коренастой монгольской лошадкой гнедой масти. На козлах, согнувшись и вобрав голову в плечи, правит конём солдат в шинели с винтовкой за плечами. В самом тарантасе, в плетёном кузове, откинувшись на спинку сиденья, уцепившись в поручни, безучастно взирает на скудную природу Манчжурии молодой – не более двадцати пяти лет – поручик. Золотые погоны с красными просветом и окантовкой, тремя звёздочками на каждом были слегка помяты и топорщились на плечах, френч небрежно расстёгнут на две верхние пуговицы, форменная фуражка давно свалилась и покоилась на полу тарантаса у запыленных сапог, обнажив слегка заросшую шевелюру. Ремни портупеи расслабленно свисали на форменной одежде. Да и во всём облике молодого человека отсутствовали тот лоск и холёность, что так выгодно отличают штабных офицеров от их строевых коллег.
По обе стороны верхом на таких же монгольских лошадках сонно качали головами два солдата охраны, вооружённые саблями и винтовками. Благо, кони, приученные к каменистым дорогам, не требовали контроля и управления, а брели самостоятельно вслед за тарантасом и всадники могли позволить себе вздремнуть на ходу прямо в седле.
– Слышишь, служивый! – поручик коснулся спины кучера. – Далеко ещё до позиций?
– Ась? – вздрогнул солдат, обернувшись к пассажиру.
– До позиций далеко, спрашиваю? – и тут же передразнил солдата:
– «Ась-нонче-давече-кадысь». Эх, лапоть тамбовский! С тобой не соскучишься.
– Мы не тамбовские, – обиделся кучер. – Вяцкие мы.
– Так это не табе матка смятану в мяшке приносила?
– Нет, – улыбнулся солдат. – У нас так не говорят, а по-другому: «Питро, бири видро, тини тилушку на писки». Во как, вашбродие.
– Ну-ну. Знать теперь буду. Так всё же, когда приедем, браток?
– Да версты две с гаком осталось. Во-о-он, – солдат ткнул кнутом куда-то вперёд по ходу лошади, – за той острой горой, что по левую руку, а уж за ней и вправо дорога будет. Там как раз пост наш сторожевой стоит. А уж от него откроются деревни Мугуйка, а потом и Сандяйка. Вот мы чуть-чуть дальше будем, между ни … – договорить не успел: неожиданно раздался одиночный выстрел, и возница свалился на руки поручику, изо рта солдата тоненькой струйкой побежала кровь.

