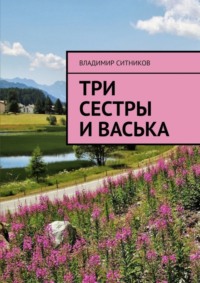
Три сестры и Васька
– Сколько надо?
– Десять литров, – не моргнув глазом, выпалил Демид.
– Пять дам, – сказал председатель. Он понимал, о каком «окислении» идёт речь.
В общем, Демид, закончив телефонизацию, вернулся в родную Коромысловщину, потому что понравилась ему налитая, звонкоголосая Симка Васина. Женился и окончательно осел здесь в те незапамятные времена телефонизации.
Подошли как-то в День ВДВ коромысловские десантники к Зачернушке и замерли в удивлении: на луговине красовался белоснежный шатёр подстать ханскому или царскому. Это Иван Чудинов додумался надеть на жердяной остов свой малый парашют, привезённый из армии.
На траве скатерть растянута, кое-какое угощение деревенское уже расставлено. Десантники загоготали от радостной неожиданности. Ай да Иван Чудинов!
– Душа горит, – заорал механик Кочергин. – По рюмочке, по маленькой налей, налей, налей!
А голосяра у этого присадистого, ширококостного бугая была такой, что в пяти соседних деревнях слыхать, да вот деревень-то теперь нет. Пустилась гулять бутылка под холодную закусь.
– Тимофеич, ты зачинай, – обратился Иван к самому старослужащему Кочкину Максиму, который с японцами успел повоевать в 1945-м.
– Я артиллерист. Давай мой марш, – и, взмахивая рукой, запел костистый седой Максим Авдеевич, но едва успел одолеть первые четыре слова: «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой», как густо подхватили все, а Иван разрядил свою гармонь. Особенно задиристо орали припев:
– Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Это назло всем, кто Сталина поносил и не признавал. Ну а вернее, чтоб ощутить причастность к отцовской Победе в той Великой Отечественной войне.
Появлялись чугуны с варёной картошкой, а чаще всего уха. Григорий Фомич давал неводчикам распоряжение поймать для десантников рыбы столько, чтоб поварёшка по стойке «смирно» стояла в котле.
За ухой доходило до солдатских бывальщин и анекдотов. Травили их наперебой.
Зачернушкинские старушки жались в сторонке, стесняясь.
– Эй, освободите место, – призывал Егор Трефилов.
– За мам!
– За старшее поколение!
Подводили старушек и Серёгу Огурца. Его садили на опилыш, давали на колени миску с ухой.
Серёга Огурец ни на одну войну не попал. На большую не взяли, потому что мал был, а на эти – куда его перестарка да ещё мирного калеку? Зато он помнил, как деревня встретила весть о том, что кончилась война 9 мая 1945-го.
– В войну-то я плугарил на тракторном прицепе, и на лошади пахал, на быке Африкане, потому что чёрный был, а в ту весну лошадей доконали. На свои огородцы пахать председатель лошадь не дал. За восемь лет изнашивались лошади, а тут ещё бескормица, рёбры да кости у них остались. Не жалели дак. Сами бабы впрягались, а мне сказали: за плуг вставай. И вот шесть наших баб тянули плуг. А до поля на себе перли его.
Только впряглись, вдруг с дороги проезжие заорали, флагом машут.
Поняли мои бабы, война кончилась. Обнялись, а потом как завоют. У меня по коже мураши забегали. Жуть! Горе-то полилось.
Сколько они перенесли всего.
Старухи при этих Огурцовых воспоминаниях начинали сморкаться и утирать глаза уголками полушалков.
– Пережито было.
– Керосину по ложке собрали для одной лампы и у Луши-бригадирки попели и поревели в честь Победы, – заканчивал рассказ Серёга Огурец.
Встречи в Зачернушке под чудиновским парашютом ждали бывшие десантники с особым желанием, да и не только они. Иван выкладывался по полной. Играл так, что в пляс пускались даже отменные седуны и курильщики.
Демид, напившись, мрачнел. Вдруг его одолевали обиды. Он приставал к Ивану:
– Почто тебя все любят, а меня нет. Я ведь тоже здешний, свой, недалеко отсюда родился, всей душой привязан, а почто меня не любят?
– Да будь ты проще, – примиряюще утешал его Егор Трефилов. – Кто тебя не любит? Все любят!
Иван пытался объяснить:
– Ты, Демид, сам ищешь в людях каверзу и подвох. Гоняешь, требуешь, рвать и метать тебе надо, а ты с подходом, по-человечески скажи.
И ещё был желанный праздник в селе Коромысловщина – это День работника сельского хозяйства. Кроме торжественного собрания, где перечислял Григорий Фомич поимённо всех передовиков сева и уборки, хвалил животноводов за привесы, доярок за удои молока, проводилась ярмарка на площади перед магазином. Приезжал торговать выпечкой и тряпками райпотребсоюз. Прямо в кузове грузовика, затянутого кумачом, отплясывали крепконогие девчонки из райцентра, пели свои солисты из ДК и, конечно, звенел голос коромысловской соловушки Зои Игнатьевны, пел колхозный хор. Детвору катали на украшенных лентами и бумажными цветами лошадях. Этим занимался сам председатель колхоза Григорий Фомич. Любил он такие забавы. Недаром на фронте в кавалерии воевал.
Но, пожалуй, самым завлекательным местом, где народу не протолкнуться, в этот день была площадь перед магазином. Там обычно ставили торчком столб, на макушку которого надевалось тележное колесо. На нём помещался какой-нибудь таинственный приз. В прошлом году получил победитель скатерть-самобранку, в которой были завёрнуты две бутылки водки, кусман сала, круг колбасы и целая буханка сыра. Скотник Никола Сластихин, залезший первым, сразу от столба пошёл в столовку с приятелями, чтобы «раздавить» пузыри и пропить «самобранку».
Вот и нынче гремела музыка на площади и заманчиво белела лесина со снятой скобелем корой – ни сучка ни задоринки. И на этот раз на макушке столба было колесо. Там вертелся в корзине и даже хлопал крыльями пожарно-красный петух. Кто снимет его, получит не только петуха, но и ценный приз. Принаряженная по-модному в меховой шапочке, поджав губы, стояла Анфиса Семёновна и держала тайну. Она знала, что прилагается к петуху первому победителю телушка, второму – поросёнок, а третьему – воз дров. Всё нужное в деревенской жизни. Сожалела опять, что нет у неё парней, а то бы… Ивану-то по столбу не подняться. Такой тяжеловес стал. Заготовила и положила она в свою объёмистую сумку две бутылки водки и пятьдесят рублей приготовила. Если выиграет приз какой-нибудь бесхозный, приехавший из отстающего района или с северов ханыга, работающий скотником, она сразу ему две бутылки в руки сунет и выкупит телушку или поросёнка. Телушка, конечно, и ценнее, и нужнее всего.
Васька, узнав от матери, что первый приз телушка, сразу про бабушку Лушу вспомнила. Та вздыхала, что у Вешки десять отёлов, стара уже. Вот бы заменить её породистой тёлочкой. Васька не осуждала мать за то, что та задумала выкупить приз за водку. Для Зачернушки ведь. Кому-то телушка вовсе не нужна, а тут она к месту будет.
Иван толкался среди мужиков, рассказывал анекдоты. Когда подходил к жене, та настораживалась. Вот, наверное, думает благоверный упречно про неё: парня не родила ему, а парень бы приз взял. Девчонки-хохотушки среди подружек. Какой от них прок?!
Охочих забраться по столбу хоть отбавляй. Первый тракторист Витя Кочкин, хватившй для храбрости стакашек, вроде рьяно начал карабкаться вверх по столбу, но добрался только до средины. Застопорилось движение, и он беспомощно сполз вниз, сконфуженно отошёл к приятелям.
– Руки коротки, а задница тяжела, – злорадно пробасил Демид Кочергин
– Вот окаянное вино-то чо делает. Ведь залез бы парень, ежели не пил, – посочувствовала Витина соседка.
А когда соскользнул, так и не добравшись до корзины с петухом даже испытанный спортсмен – школьный учитель Валентин Николаевич, ехидно посочувствовал ему Иван Чудинов:
– Наверное, салом столб-то кто-то намазал.
Музыка играла, пел на грузовике певец из Орлеца, а петух тосковал на столбе. Остановилось действо. Не было победителя в лазаньи по столбу.
И тогда раздевшийся до плавок, решительный, мускулистый горожанин – внук Инны Феликсовны Куклиной Эдуард подошёл к столбу. Все поняли – приз достанется ему. Анфиса Семёновна стала пробираться к бабке Куклиной, стоявшей с внуковой одеждой, чтоб договориться насчёт тёлочки.
Эдик был мускулист и строен. Конечно, запросто взберётся на столб. Городские – они натренированные.
– Аполлон, – оценила Эдика учительница литературы Татьяна Витальевна. И Эдик совсем немного не добрался до корзины с петухом. Спустился вниз и досадливо махнул рукой. Кто-то из деревенских злорадно засвистел: слабак горожанин! Мало каши ел. А Татьяна Чудинова пошла утешить огорчённого Эдуарда Куклина. Он, приезжая в Коромысловщину, на танцах в ДК всегда приглашал Татьяну и долго провожал до дому.
– Кто следующий осмелится лезть? – заманчиво спрашивала через мегафон председатель профкома агрономша Бушмелева.
Ивана нетерпеливо теребнула за рукав полупальто Васька.
– Па, можно я полезу? – прошептала ему в ухо.
– Да ты что? Девки не лазят, – отмахнулся он.
– Ты ведь парнем меня зовёшь, – не сдавалась Васька.
– Опозоришься, сдурела что ли? – попрекнула её мать. – Иди вон к подружкам.
– Долезу, – упрямо пробурчала Васька.
– Лазила что ли? – покосился с подозрением отец.
– Вчера уже в темноте, как только столб поставили мужики и ушли, я залезла запросто, – прошептала она, нагнув голову отца, чтоб никто её тайну не слышал.
– Ну тогда давай, Васька, – забирая охапкой у дочери куртку, спортивный костюм и кеды, одобрил её Иван. – Ты ведь и вправду у меня парень – хоть куда.
В маечке и плавках, масластая, цепкая Васька обняла столб и ловко, по-обезьяньи стала карабкаться вверх.
– Чей это парень-то? – любопытствовали в толпе старухи.
– Да Васька Чудинова. Чертёнок, а не девка, – распознал её фельдшер Серафим Федосович Ивонин.
– Васька, давай, давай, – завизжала Жанна.
– Агафья, Агафья, Агафья, – хором закричали подружки, пока не пробасил Иван Родионович:
– Всё выше и выше, и выше.
Эти слова подхватили и девчонки, и взрослые. Самое ободряющее, самое подходящее, если такое крикнуть лезущему вверх, конечно, силы прибудет.
Васька легко добралась почти до верха столба, а дальше застопорилось дело – нестерпимо заболели руки, налилось тяжестью тело, казалось, онемели ноги. Вроде вчера такого не было, а сегодня вдруг захотелось ослабить хватку и, освободившись от тяжести, сползти вниз по столбу. Тогда будет совсем легко. Но стыд-то какой! Нахвастала, что долезет и вдруг…
А внизу орала толпа и расслышала она отцову песню «Уверен, что я долезу». Во рту пересохло. Она закрыла глаза и, прижавшись лбом к столбу, на миг замерла. Вчера в темноте, ещё не зная ничего о призах, вон как легко вскарабкалась. Приказала себе: «И теперь заберусь!» потом добавила ещё злее и безжалостнее: «Доберусь!» Иван Чудинов внизу, взмахивая рукой, орал:
– Всё выше и выше, и выше, – и его друзья-десантники подхватили песню.
Василиса принялась карабкаться вверх, хотя горели ладони, ноги, но теперь она бодрила себя: немного осталось, совсем немного.
Около самой корзины с петухом замерла.
– Васька, не дрейфь! – поддержал бас Демида Кочергина. Все были за неё.
Зацепившись левой рукой за срез столба, правой сняла корзину с петухом, и дрожащая от возбуждения и холода, соскользнула на землю. Вокруг неё прыгали, визжали и орали что-то радостное и восхищённое девчонки, лезли обниматься Жанка, Римка Князева, Верка Клековкина. Отец., отстранив всех, накинул на жилистые плечи дочери своё полупальто. Какое тёплое, уютное, отцовское.
– Молодец, Васька, просто молодец! Одевайся. Озябла небось, – и помог он натянуть костюм, застегнул на молнию куртку.
– Наша тёлка, – выдохнула восторженно Анфиса Семёновна. – Ну, Васька, не ожидала от тебя такого. Герой!
Кто-то сказал, что Васька еще школьница. Ей не положен приз.
– Ну и что что школьница, а семья колхозная, – ринулась в перепалку Анфиса Семёновна.
Вмешался председатель Григорий Фомич:
– Победитель есть победитель! – авторитетно сказал он, и Галина Аркадьевна Бушмелева через мегафон прокричала:
– Первый приз получает Василиса Чудинова.
Тёлочку, которую назвали тоже Вешкой, увезли к бабушке Луше в Зачернушку. Бабушка всплёскивала руками: чудо чудное. Девка на столб слазала и тёлку получила. Ну дела! Ой, Василисушка, мака. «Макой» она называла внучек, когда хотела их похвалить. А Василиса была самая дорогая мака, близкая ей.
– Ты уж мне, Василисушка, помогай! Хлебца-то двум животным, коровке и телушке, надо буханки две, а то и три в неделю. Доить идёшь – бери краюху, другой раз – тоже эстоль.
И Васька гоняла летом и осенью на велосипеде, зимой на лыжах к бабке Луше с хлебом каждые три дня. А как иначе? Двух коровушек держать – не шуточки.
Гробовые – на веселье
У Ивана Чудинова было две гармони. Одна парадная, нарядная, инкрустированная, тульской работы находилась в Коромысловщине. Её знали и слышали почти все жители села. Он ведь и в ДэКа выступал со сцены, и топотуху наяривал на улице в праздничные дни. Любовались коромысловцы Ивановой хромкой. Как и положено, уважаемый инструмент хранил Чудинов в футляре.
Вторая гармонь, потёртая, с невзрачными выцветшими мехами жила в Зачернушке. На ней и училась играть Васька. Тоже вроде неплохая гармонь, голосистая, но что-то стала похрипывать и посипывать. Видно, простыла после того, как по оплошности оставили её на зиму в клети. Так и лежала теперь завёрнутая в старый полушалок на шкафу в бабушкиной избе, и никто к ней не прикасался.
И вдруг полный обвал с гармонями. Лишился Иван их обеих.
Выходила замуж за Эдика Куклина старшая дочка Чудиновых Татьяна. Что-то вроде свадебки отгуляли в Коромысловщине, а потом по-настоящему решили гульнуть в Кирове. Народу молодого в кафе назвали полным-полно. Невеста счастливая красавица с русой косой и жених хорош, питья полно, пожеланий и воплей «горько» на весь вечер. Всё как положено.
Анфиса Семёновна хотела всплакнуть: горько-де отдавать родимую кровиночку на чужу сторону, да нахальная бойкая тамадиха, нанятая специально, пресекла всю её печаль:
– Я вызвала сантехника, чтоб из глаз не капало у вас.
Вот и погорюй тут по-человечески.
Вовсе нынче иной ритуал, хоть вроде суетятся дружки, невесту крадут и прячут, чтобы вытребовать выкуп. Но всё это только ошмётья от прежних старинных обычаев.
Наёмная тамадиха бегала с бумагами в горсти вокруг стола, командовала, когда пить, когда петь, когда смеяться, сыпала присловьями вроде: женитьба – это досрочный рай. Ивану ходу не давала. Он сидел со сватом – отставным полковником, у которого весь китель в наградах, и по-умному рассуждал о политике да о том, что опять затеяли правители гонение на вино. Но народ всё равно выход отыщет. А так стыд и позор – давятся люди у магазинов, по головам друг у дружки лезут. Сколь сил и времени теряют.
Где-то под конец застолья удалось Ивану повеселить игрой пожилую публику. Молодёжь-то привыкла под громовое буханье аппаратуры радость свою выплёскивать, кривляться да топтаться на месте. А Иван такую топотуху завёл, что пожилые гости от души побили каблуками кафешный пол. Молодёжь, расчухав, что тут настоящее веселье, переметнулась к Ивану. Конечно, Жанка и Светка дали жару: знай наших, коромысловских.
Жанка крутилась по-всяконькому перед Эдиковым отцом, отставным полковником, до тех пор, как не вытащила его. Не выдержал тот и пошёл тоже отплясывать. Васька поодаль стояла. Могла бы и она вихрем пронестись, да восьмиклассницам вроде негоже по-взрослому-то отплясывать. А хотелось, и могла она вспомнить зачернушкинские пляски.
Жанка, когда возвращались в автобусе домой, выхвалялась перед Светкой:
– Ну, я дала прикурить. Ноженьки резвые пляски хотят. Я разойдусь, так меня нипочём не остановишь. Бабка Эдикова тоже, видать, шваркнула хорошо, целоваться лезла и всё меня с тобой путала: Светик да Светик. А где Аграфена-то – Василиса ваша?
Светке тоже было о чём пошушукаться. Её продолговатые зелёные глаза лукаво щурились.
– А Мишка-то, ну этот, тогда на пляже который песчаные дворцы строил, тут целоваться ко мне при всех полез, я ему смазала по щеке: не приставай к честным девушкам. А он ещё больше напился. Всё ходил за мной, извини да извини.
– И не одна трава помята, помята девичья краса, – шёпотом вредненько пропела сёстрам Васька.
– Ну ты-то чо понимаешь? – озлилась на неё Жанка. По-прежнему считали её недоростком. Подумаешь.
Ругала потом себя Васька, что зря не уехала со свадьбы пораньше вместе с родителями. Надо было. Эх, кабы знать, где упасть, соломки бы подстелила.
Ивана сватовья по отчеству навеличивали: Иван Родионович, Иван Родионович. Непривычно было, да что поделаешь. Раз дочь замуж выдал, уж не молодой, значит. Вот Иван Родионович и Анфиса Семёновна прикатили на автовокзал уставшие от веселья и обильного угощения, чтобы сесть на свой орлецовско-коромысловский маршрут. Народу полно, толчея, но нашли для Ивана Родионовича местечко присесть до отъезда. Анфиса Семёновна, оставив мужа, решила пройтись по палаткам, посмотреть хламьё-тряпьё, а Иван остался и заснул.
Когда, насытив своё любопытство в торговых палатках, подошла Анфиса Семёновна к мужу, он похрапывал, откинувшись на жёстком вокзальном диване, а футляра с гармонью около ног не оказалось. Проспал. Говорили ожидающие, что какие-то ханыги тёрлись около Ивана, кто-то доказывал, что молодой парень прихватил футляр с гармонью, сказав:
– Это мой дядя Филимон. Надо дядюшке помочь, – и унёс гармонь.
Городские милиционеры не то, что Егор Трофимов, вникать в происшествие не стали. У них этих краж за день по десятку, а то и больше случается. Зевать не надо. Ищи теперь ветра в поле. Народу-то сотни. А примет особых у преступника-вора никто сообщить не мог. Все теперь в болоньевых куртках ходят, у всех картузы с долгим козырьком. Вот такой-де и был парень, укравший гармонь.
В общем, убитый горем, растерянный вернулся Иван Родионович в Коромысловщину. И так страдал, да ещё Анфиса Семёновна, как тупая поперечная пила, его скребла и грызла всю дорогу за потерянную гармонь. Проспал добро.
Василиса, вернувшаяся домой с сёстрами Жанкой и Светкой, узнав об отцовом горе, сразу помчалась в Зачернушку, притащила оттуда старую гармонь. Пусть пока поиграет отец на ней, а потом, глядишь, удастся купить или заказать мастеру новую.
Но вот беда, старая гармошка голос не подавала. Так и эдак дёргала, вертела её Васька, никакого ладного звука, один хрип да писк. Значит, в ремонт надо отдавать, а пока – оторви да брось, никакого толку от инструмента.
Затосковал – забубённая головушка – Иван Родионович Чудинов, даже шутки у него стали какие-то невесёлые. Разочаровался в человечестве.
Люди сочувствовали. Клубарь Зоя Игнатьевна принесла адрес мастера, который живёт в Кирове и славится на всю область умением мастерить гармони. Потом бабушка Эдика Инна Феликсовна сообщила, что дали ей адрес гармонного мастера, который живёт в Оричах. Надо свозить ему обезголосевшую гармошку. Изладит.
Анфиса Семёновна втайне считала, что без гармони жить даже легче и спокойнее, не таскают теперь Ивана по пирушкам. На чужих же гармонях он играть отказывался наотрез. Зазорным считал это для себя. «Что я побирушка?» – возмущался он.
Пока собирались поехать в Киров, принесла новую весть та же Зоя Игнатьевна из ДэКа, что умер от расстройства сердца городской мастер после того, как крутые его дочери повыбрасывали прямо с балкона на улицу в мусорные баки все его заготовки к инструментам.
– Бывают же такие изверги среди дочерей, – возмущалась Зоя Игнатьевна.
На Василису это так подействовало, что села она тут же за письмо оричевскому мастеру гармонных дел. Может, этот жив?
«Дяденька Николай Васильевич, пишет вам не известная для Вас Василиса Чудинова из деревни Коромысловщина. Живы ли Вы и можно ли к вам приехать показать нашу изломавшуюся гармонь да посмотреть ваши инструменты, а то наш игрочёк – папа мой, того гляди захворает. Свет белый ему не мил. Жду ответа, как соловей лета».
Опустила Василиса конверт в почтовый ящик и чуть ли не каждый день стала забегать к почтарке Августе Михайловне, чтобы узнать, нет ли ей ответного письма.
– Влюбилась что ли? – с хитрецой выспрашивала почтарка.
– Скажете. От подруги письмо жду, – соврала Василиса, чтоб не объяснять болтливой почтарке что к чему.
Ответ принесла прямо на дом сама Августа Михайловна.
– Говорила, что подруга напишет, а тут какой-то кавалер из Оричей, – упрекнула она. Василиса вырвала тощенький конверт из рук почтарки, а в нём писулька: «Жив. Приезжайте».
Тут уж пришлось Ивану Родионовичу отсрочить все неотложности. Васька постоянно теребила его: мастер ждёт, а ты…
На автобусе добрались до Кирова, а до Оричей прокатились на электричке. Мастера Николая Васильевича здесь знали многие. Нашли его Чудиновы без затруднений.
Сухой, подтянутый, с мальчишечьей чёлкой на лбу пожилой мастер встретил их в фартуке и в очках. Сразу видно – делом был занят. Стал извиняться за неуют в жилище, за то, что верстачок в комнате и станок тут же.
– Один живу, – объяснил он, – умерла моя Анна Андреевна. Песни любила. Всё мне напевала: ой, Коля, Николаша. А теперь один кукую. По бабам бегать не привык, водкой не балуюсь. Вот гармони спасают. Весь интерес у меня в них.
Иван Родионович поперхнулся, озадаченно переглотнул слюну. Прихватил он с собой бутылочку для облегчения разговора, да вот, оказывается, мастер в рот спиртное не берёт. Наверное, недоступный человек. Как с ним говорить?
С первого взгляда определил Николай Васильевич, что зачернушкинская гармонь – не жилец.
– Извини, Иван Родионович, но она восстановлению не подлежит. Коррозия съела голоса. Возиться бесполезно.
Приговор Ивана Родионовича и Ваську вогнал в тоску:
– А как же быть? – озадачилась Васька.
– Свои покажу. Вдруг выберёте, – сказал мастер. У него, конечно, интерес сбыть свои изделия.
Четырнадцать гармоней бережно снял мастер с полок, вытащил из шифоньера. У отца глаза разбежались. Одну возьмёт, на ней поиграет, за другую хватается. А вон третья ещё голосистее.
Мастер пояснял.
– Маленькая, бордовая, с колокольчиками – это «Мечта», узорчатая в зелёном перламутре – «Фантазия», а вот эта – «Симфония».
Чувствовалось, мастер не прост, с претензией, и, видать, труды свои высоко ценил. Но это ничего. Главное, хорошую гармонь найти, с голосом.
Сходил мастер в соседнюю комнатушку. Вынес ещё три инструмента.
– Я ведь другим-то не показываю настоящие-то гармони. Кто так, меха только рвёт, ему больно-то хорошая и не нужна. На черта чёрту стеклянный лоб, он всё равно его разобьёт. Теперь ведь у кого шире орёт гармонь – тот и мастер. Тонкости не разумеют.
Вовсе стало тесно в комнате от инструментов. Повсюду гармони, гармошечки. И одна краше другой, во всяком случае, так казалось отцу и дочери Чудиновым.
– У каждой разный строй, – добавлял гармоням достоинств Николай Васильевич. – Главное-то гармонь по душе. Послушаешь переборы – вроде с молодостью встретился.
А Иван Родионович уже в музыку погрузился. Наигрыши за наигрышем вспоминал и пускал такие развесёлые трели, что даже у Николая Васильевича глаза загорелись. Но он всё ещё форс держал.
– Вятская игра складывается из трёх наигрышей: прохожей, плясовой и топотухи. Не умеешь играть прохожую, не выходи на люди, – пояснил Иван.
– Вот наигрыш позабористей будет, – хвалился Николай Васильевич и пускал Истобенскую прохожую. – Эту, наверное, ещё при первом мастере Нелюбине играли. Старинная прохожая.
– Красивая, – соглашался Иван Родионович, но не сдавался, находил ещё чем удивить мастера. – Это наш коромысловский напев. Как заиграю, дак старухи у калитки сойдутся, слушают. Не терпится кренделя ногами выделывать.
Но Николай Васильевич ловок был в игре и пускал новый наигрыш.
Когда поустали игроки, обратила внимание Васька на маленькую, почти игрушечную гармошку, стоявшую на подоконнике.
– А эту как зовут? – спросила она.
– Это полубаян. Без названия. Для забавы сделал, – бросил мастер. – Думал внукам поглянется, да ни один интересу не проявил. Разленились. Проигрыватель у них теперь главный в жизни инструмент.
Васька залюбовалась миниатюрным полубаянчиком. Он так и просился в руки. Ладно умещался в ладонях, но был увесистый. Видно, много голосов поместил в нём мастер. Взяла и оторвала тончик. До чего мелодично пел инструмент – заслушаешься.
– Любимую-то гармонь, как автомашину, как лошадь свою в чужие руки отдавать нельзя, – задумчиво проговорил мастер.
– Правильно говоришь, – согласился Иван. – Вот эту бы я взял, – и погладил гармонь в зелёном перламутре. – А вот ту, малышку, для Василисы бы.
– Эту, зелёную-то, тебе, наверное, не потянуть, – охладил пыл Ивана мастер. – Она у меня самая дорогая. Я её полтора года излажал. Всё сам делал от и до. Не играет, а будто девушка смеётся.
И правда, певуча и звончата была гармонь. Не зря её выделил среди других Иван Родионович. А слова насчёт того, что «не потянуть» только раззадорили его.