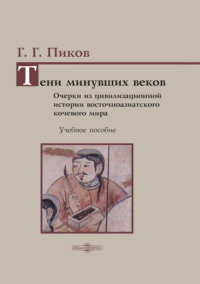
Тени минувших веков. Очерки из цивилизационной истории восточноазиатского кочевого мира
Важной темой снова становятся, соответственно, этнические передвижения. Они всегда были в центре внимания культур и народов. В историографии, однако, как справедливо отметил один из пионеров идеи кочевой цивилизации в нашей стране А. И. Мартынов, взаимоотношения обществ оседлых цивилизаций и степной Евразии все еще не рассматривались как система отношений двух параллельно развивающихся миров и это связано с тем, что оседлые общества – явление историческое, а степная Евразия, прежде всего, археологическое, добавим, и филологическое, т. е. описываемое все еще достаточно тенденциозно, в значительной степени на основе тех оценок, которые давали современники кочевой цивилизации.
В научной историографии, по понятным причинам, не только утвердилось и широко тиражируется мнение о драматическом противостоянии оседлых и кочевых народов в целом и Степи и Китая, Руси и степняков в частности.
Долгие века оседлые народы медленно продвигались на кочевые земли. Они – «бесплодны» и «бесхозны», но и кочевникам нечего делать на улицах Пекина или Шанхая. А в средние века речь никогда не шла о завоеваниях, а лишь об обмене ударами. И кочевники вспоминают об этом с легким сердцем, а оседлые твердят о «бандитизме» «варваров».
В традиционном обществе широко представлен милитаризм, который, однако, двоесущен. Исторический материал явственно демонстрирует, что везде он используется, прежде всего, для выполнения полицейских функций и обороны. Однако в оседлых государствах он становится еще и основой территориальной экспансии, целью которой является решение проблем, возникающих из-за недостатка пригодных земель и перенаселения. Именно в оседлых государствах формируется регулярная и огромная армия.
Этим занимаются все оседлые народы Евразии, и лишь Европа, помимо широкомасштабных попыток захватить чужие земли (Крестовые походы, Великие географические открытия, Тридцатилетняя война как передел Европы) идет еще и по пути «капитализма». Эффект этого проекта был значительно усилен за счет того, что европейцы получили огромные «свободные» территории в Америках.
Для восточноазиатских кочевников главным «агрессором» в это время были китайские династии. Одним из видов продвижения оседлых государств на север стало создание «серой зоны». На границах миров селятся и кочевники, и крестьяне, растут города. На юге киданьской империи Ляо живут «хань эр» (китаизированные) и собственно китайцы.
Гибель империи Ляо в первой четверти XII в. в значительной степени была результатом натравливания на киданей их полуоседлых восточных соседей – чжурчжэней. Новая Золотая (Цзинь) империя, подчинившая основную территорию киданьского государства (кроме западных и северных районов), получила земли, на которых проживало большое количество кочевников. На них уже были созданы политические и хозяйственные механизмы, регулировавшие взаимоотношение сложных и, казалось бы, несовместимых экономик – кочевой и оседлой. В Ляо на практике проводилась политика «одно государство – две экономики». Однако если киданьское государство было формой управления, прежде всего, кочевниками, то чжурчжэньская «химера», по сути, стала формой и средством экспансии оседлого мира на кочевую территорию. Поскольку на землях новой империи продолжало проживать преимущественно кочевое и полукочевое население, она вынуждена была проводить самостоятельную политику, и не стала новой китайской династией. Таковой она будет объявлена вкупе с киданьской империей Ляо и монгольской империей Юань лишь в XIII в.
Все же de facto в интересах оседлой зоны это государство пыталось подчинить себе другие монгольские районы. Цзинь была вынуждена проводить несколько иную политику в Степи, чем киданьская империя Ляо. Чжурчжэни были выходцами с самой восточной окраины кочевого мира и фактически принадлежали к иной племенной и языковой группе. Им еще предстояло доказать свое право возглавить кочевой восточноазиатский мир. К тому же они по сравнению с киданями гораздо глубже вошли в пределы оседлой зоны Восточной Азии и все их внимание так или иначе было сосредоточено на отношениях с Южной Сун и Западным Ся. Чжурчжэни старались не заходить в Монголию. В результате монгольские районы, которые раньше контролировались Ляо и пресекались ею малейшие попытки усиления здесь какой-либо власти, теперь оказались вакуумом. Это означало фактически, что значительная часть Монголии оказалась вне контроля со стороны оседлого государства, каковым являлась чжурчжэьская империя. Более того, чжурчжэни же не были в состоянии осуществлять контроль над этими районами в той форме, какая была во времена Ляо и для сдерживания вынуждены были применять репрессивные меры. Цзиньский император Ши-цзун (1161—1189) как-то сказал: «Татары непременно явятся бедствием для нашего государства!». Фактически начала осуществляться политика геноцида под циничным наименованием «сокращение численности совершеннолетних».
Монгольские народы оказались перед угрозой истребления. По слухам, эта агрессия началась после того, как какой-то гадатель предсказал чжурчженьскому императору гибель его державы от кочевников.
Кочевники, возглавляемые Чингисханом, вынуждены были «мстить». Это нашло внешнее проявление в том, что кочевники «обрушились» на Китай. Как в Европе, когда средиземноморская Римская империя начала теснить германцев, и они пошли на Рим, так и здесь монголы пришли на юг. Конечно, в обоих случаях важны были и внутренние проблемы «варваров», но фактом является и то, что таким образом они отвечали и на медленное, ползучее, но неуклонное продвижение на север оседлых народов.
В обоих случаях итогом этих битв стало катастрофообразное соединение двух зон, сложное и проблемное взаимоотношение между которыми осуществлялось уже не одну сотню лет. В обоих случаях был нанесен смертельный удар по южным империям, а «варвары» смогли создать свои империи: в Европе – Каролинги, Священная Римская империя, в Восточной Азии – Ляо, Цзинь, Юань, а потом и маньчжурская династия Цин.
В Восточной Азии мы имеем дело с уникальным опытом взаимодействия двух хозяйственных зон. Кочевая зона – почти чисто аграрная. Здесь город присутствует минимально и потому слаб. Потому и существует эффект отсталости, когда кочевники «опаздывают» на тысячу лет. Даже после империи Юань и фактически до сих пор города здесь представляют собой архипелаг.
«Цивилизация» же понятие по происхождению оседлое и городское. Именно здесь город играет важнейшую роль, даже в «темные века» средневековья существует система замков. Замок – уже не деревня, хотя и не классический еще город. Это переходная для аграрной экономики форма, причем для экономики аграрно-земледельческой. Пастбищам дороги мешают, они рвут пространство. Полям большие города тоже не нужны и все же земледелие нуждается в торговле больше, чем скотоводство. Пастбище предельно автономно, а деревня ведомая. Она производит продукты не только для себя, но и на рынок, а сама нуждается в городских товарах и инструментах. По этой причине «городской архипелаг» в оседлой зоне более плотен и обширен. И «цивилизация» здесь возникает раньше, и необходимость в механизме, распределяющем продукты («феодальная лестница») все время растет. Именно из этого регулирующего и распределительного механизма и вырастает государство, которое быстро приобретает и массу иных функций.
Характер развития кочевниковедения на данном этапе и специфика вновь поднимаемых необходимых и перспективных в научном отношении тем позволяют говорить о необходимости признания нового подхода к истории кочевников, основные контуры которого уже складываются.
На данном этапе развития истории как науки наблюдается своеобразный методологический вакуум, фактическое отсутствие адекватных и перспективных макроисторических и макросоциологических концепций, которые могли бы оценить такой специфический исторический материал. Естественно, что в условиях, когда нельзя к материалу идти «сверху», остается только один путь – исходить из самого материала.
Поэтому сразу необходимо подчеркнуть, что он является предельно дисперсным, раздробленным, обусловленным рядом разнохарактерных требований к нему. Это не теоретическая, а практическая методология, хотя они и неизбежно переплетены. Иначе говоря, идеи, лежащие в основе практических исследований, должны выдвигаться на основе практического изучения, а не быть взятыми из какой-либо идеологии или философии, хотя и с привлечением все же той общенаучной терминологии, которая была выработана в Европе.
Этот подход должен быть научным, а не идеологическим. Вроде, избитая мысль, более того, мы уверены в том, что именно с позиций науки и занимаемся изучением конкретной истории. Однако именно последние десятилетия показывает, что историческую науку активно используют чаще всего для обоснования тех или иных идиологем или этнополитических взглядов. Максимальная деидеологизированность и использование строго научных методов работы с фактическим материалом, сформировавшихся в истории, политологии, социологии – единственно возможная парадигма такого рода исследования.
Здесь важно все явления и процессы рассматривать в историческом плане, как не только проявление какой-то универсальной, общечеловеческой тенденции, но и порождение специфической исторической ситуации.
Предельно необходим своего рода апофатический или отрицающий подход. Он будет успешным, к тому же, только в том случае, если исследователь максимально дистанцируется и от таких неизбежных спутников любого человека, как оседлоцентризм, номадоцентризм, европоцентризм, азиацентризм, китаецентризм и т. п. Необходимо максимально отказываться от дихотомийного принципа: оседлые – кочевые, Восток – Запад, Китай – кочевники, богатые – бедные, прогресс – регресс, положительное значение (роль) – отрицательное. Разумеется, все эти дихотомии в том или ином масштабе присутствуют в истории, но превращение их в системообразующие приводит к существенному или даже сущностному искажению картины истории. Чаще всего такие призывы не воспринимаются всерьез, однако именно эти стереотипы до сих пор являются методологической основой многих исследований. Очень часто, в условиях ослабления позиций тех или иных методологий мезоуровня, например, марксизма или христианства, в наступление на освободившееся место переходят и существенно усиливают свое мировоззренческое значение европоцентризм и оседлоцентризм.
Общемировоззренческие принципы являются основой любой методологии. Если мы исходим из оседло- или номадоцентризма, этноцентризма, идеализма или материализма, то будут выстраиваться и разные картины истории. Они обязательно будут логически строго выверены, выстроены высокопрофессионально и проиллюстрированы обильным количеством фактов. С профессиональной точки зрения они, по сути, безупречны и непоколебимы. «Ахиллесова пята» их находится в мировоззренческой плоскости. Сказываются, разумеется, и чисто практические нужды, и конъюнктурные соображения. Иначе говоря, сказывается социокультурная и этнополитическая принадлежность исследователя, то, с чем он чаще всего и не видит необходимости «выяснять отношения».
Сам по себе оседлоцентристский подход не является «правильным» или «неправильным», как не является таковым его визави – номадоцентризм. Он создал очень мощную историографическую традицию, позволявшую на протяжении длинного ряда тысячелетий выстраивать эффективную политику противостояния кочевникам, которые до такой степени осмысления своей истории, надо признать, не поднялись. Благодаря работам исследователей на протяжении последних двух столетий он был научно и концептуально оформлен. Мне кажется, именно выход на эту финитную стадию и позволяет не просто «бороться» с ним, а сформировать параллельно ему или даже в чем-то в противовес качественно иное отношение к кочевникам, их истории и культуре, не скатываясь на позиции только номадоцентризма. В конце концов, речь идет не об «оправдании» скотоводства или земледелия как таковых, а об объективном отношении именно к цивилизации кочевников, в данном случае, преимущественно тюрко-монгольской.
Методология должна носить рабочий характер и быть предназначенной именно для решения специфического комплекса проблем, связанного с кочевниковедением в целом. Это, понятно, не означает, что она должна основываться на какой-либо очередной «плодотворной» общемировоззренческой идее. По крайней мере, в настоящее время трудно рассматривать совокупно оседлые и кочевые народы в истории через призму неких общечеловеческих ценностей, но и номадоцентризм как антитеза оседлоцентризму здесь абсолютно не подойдет. С другой стороны, свести такой рабочий подход к сумме неких специфических методов физически невозможно. Пусть историологический инструментарий создан и эффективно апробирован на материале классических оседлых народов, альтернативы ему нет. Для понимания кочевников также необходимо чтение источников из разных времен и народов,
Центральным здесь является понятие «цивилизация», которое в настоящее время имеет два основных значения – стадиальное и локальное.
Оседлые народы в соответствии с этим подходом, равно как с обыденным представлением, значительно оторвались в своем развитии от кочевников и достигли весьма высокого уровня. Однако и то «плато», на котором они находились, существовало почти без изменений на протяжении нескольких тысяч лет. Это есть так называемый «исторический период», т. е. время существования крупных государств имперского типа (Китай, Средиземноморье, Византия, средневековые европейские империи и др.). Кочевники же остались на стадии до государственного развития и так и не смогли подняться выше. Их «квазигосударства» есть лишь обезьяна оседлых этатических конструкций и механизмы эксплуатации оседлого мира.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что кочевниковедение – самая специфическая сфера исторического знания. Само понятие «история» родилось в оседлом мире и там показало всю свою эффективность. Оттуда же родом и такие термины, как «цивилизация», «культура», более узкие – «империя», «государство». А в кочевом мире они в своем классическом виде не работают. Уже одно это порождает желание вывести кочевников за скобки «человечества» вообще. Между тем, уже средневековые авторы признавали кочевые народы «варварами» как постепенно переходящими на стадию цивилизации через «примитивное» и неосознанное копирование оседлых институтов и понятий. При этом, с их точки зрения, шло «извращение», создавались «квазигосударства». Иначе говоря, уже в то время активно использовался цивилизационный подход и применялся, в том числе, и для анализа развития кочевых народов.
Как и тогда, так и сейчас цивилизационный подход используется, прежде всего, по горизонтали, т. е. в компаративистском ключе. Сравниваются разные зоны Евразии, в том числе и кочевая. Остается лишь признать, что «кочевой архипелаг» такая же цивилизационная зона, «Pax Nomadica». Именно в этом плане наука должна максимально уходить от своей публицистичности, от предпочтения одной какой-то цивилизации, через которую прочитываются все остальные. Необходимо формулировать общие критерии «цивилизованности», общую модель цивилизации.
Цивилизационный подход более значим для изучения всеобщей истории, чем формационный для Европы. Пока же он выступает чаще всего лишь как средство примирения разъяренных цивилизаций.
При решении универсальных проблем истории всегда необходимо помнить, что сами по себе конкретные факты, взятые из материала одной цивилизации, редко совпадают с конкретикой другой цивилизации. Если мы изучаем, например, восточное общество, сравнивая его с западным, которое является для нас наиболее изученным и соответственно волей-неволей эталонным, то очень быстро появляется уверенность в том, что мы имеем дело не с цивилизацией, и, в лучшем случае, с чем-то «примитивным». То же самое можно сказать о сравнении кочевого общества с оседлым. Однако если мы априори не будем отказывать Востоку или Степи в цивилизованности, то легче убедимся в том, что мы имеем дело с частным проявлением общего и закономерного.
Сама история логики научного исследования подводит нас к этому. До XX в. развитие научной мысли шло по традиционному пути. В рамках традиционного общества применялся этнополитический подход, когда кочевники рассматривались как соседи, поведение которых чаще всего было непредсказуемым и агрессивным. В Новое время возобладал формационный подход, в рамках которого кочевникам вообще не находилось места в хозяйственном развитии человечества. Их стали именовать «трутнями», «бомжами», роющимися на «помойках цивилизаций». На данном этапе цивилизационный подход все же позволяет выяснить их креативную роль в истории, т. е. некую пользу для развития человечества. Пусть так, с этой ступени будет легче прийти к признанию их самобытности. Эта задача не только научная, но и цивилизационная. Давно пора вывести из тени т. н. кочевые народы, показать, что у них были не только сила, войны, склоки, но и высокая и уникальная культура.
Из глубины веков, что в Европе, что на востоке Азии, идет утверждение об «отсталости» «варваров», которым самой логикой истории предназначено переходить на «магистральный путь развития всего человечества». Стоит, наконец, понять, что они в силу своей экономики и ментальности сами не идут в «цивилизацию» и не претендуют на ее территорию. Это цивилизация в виде городской экономики и торговли приходит в аграрный сектор. Сначала город подчиняет и максимально растворяет деревню, ассимилирует ее культуру. Только деревня находится в оседлой зоне, и потому нет внешнего эффекта уничтожения целой цивилизации. Кочевники же гибнут уже под натиском государства. Аграрии в этом плане уникальны, а кочевники аномальны, но и те, и другие рано или поздно поглощаются городской цивилизацией. У крестьян это происходит раньше, хотя хронологически уход скотоводства и земледелия как аграрных занятий происходит практически одновременно, в начале второй половины прошлого тысячелетия. К этому времени усиливается натиск на их земли, и они вынуждены более ожесточенно обороняться. И полей, и пастбищ уже недостаточно для нормального существования, необходимо усиление связей между отдельными районами и начинают появляться достаточно большие государства (кочевые империи).
Кочевая цивилизация связана с землей, и она уходит как «феодализм», т. е. аграрное общество. Феодализм свергается революциями, а кочевники разбиты извне, ибо внутри их общества еще существовали возможности развития в сколько-нибудь обозримом будущем. Их земля, элементарно говоря, понадобилась для существования оседлых сообществ.
В целом же кочевая цивилизация существовала столько же, сколько и оседлая деревня. Это городу как центру экономической жизни всего тысяча лет.
Надо перестать «читать» историю с помощью того ограниченного набора глагольных форм, которые понятны и простительны в контексте информационных войн или в сказках: нападать, грабить, угнетать, захватывать, завоевывать, обороняться и т. п. Реальная история есть грандиозная мистерия с невероятным количеством действующих сил. Это внешне клубок, броуновское движение. Любой «исторический источник» дает лишь собственную интерпретацию событий и процессов, далеко не однозначную и не безупречную. Понять логику этого можно только отказавшись от стереотипов и «интересов», понимая, что в данном «спектакле» все «актеры» «одновременно правы и не правы», обладают своей «правдой». Любая иерархия фактов, исходящая из представлений о некоей чьей-то недоразвитости или ущербности, есть просто выдумка, наивное или подлое рассуждение, в крайнем случае, всего лишь интеллектуальное упражнение и развлечение. Наивными или непродуманными могут быть поступки людей, но не работы исследователей, их изучающих. Непродуманность и использование вульгарно-бытовых штампов не меньший грех для исследователя, чем корыстные цели или стремление создать себе репутацию с помощью тех идей, которых ждет от него обыватель, читающий перед сном занимательный или пошлый «исторический» роман.
Объяснять историю стран Востока и, тем более, кочевников, с помощью терминологии, разработанной на материале западноевропейской истории, стало сложнее, однако это не только возможно, но и неизбежно.
Феодализм нигде и никогда не был локальным или региональным. Можно не называть его формацией и искать только в Европе, но если это слово оставить за этапом развития всего человечества, когда на первый план выходит земля (аграрная цивилизация), то воспринимать это надо как универсальный, общечеловеческий строй.
Эффективность европейской модели связана с тем, что в ней максимально отчетливо видны универсальные черты, присущие и любой другой цивилизации, и специфические. Это и позволяет назвать ее моделью, и использовать в качестве таковой.
В применении к исторической науке это и означает, что любая цивилизация, но в значительной степени и цивилизационная зона как зачаточное ядро будущей цивилизации, должна иметь два уровня построения: универсальные и специфические черты.
Таким образом, использование европейской модели дает максимальную возможность определить характер и уровень развития того или иного метарегиона. Цивилизация и цивилизационная зона в данном случае будут отличаться только масштабом. Примерно так отличаются ребенок и взрослый человек.
Здесь важна еще одна методологическая проблема. Традиционно принято делить любую историографию на донаучный и научный период. Это деление имеет европейское происхождение и берет начало с эпохи Возрождения и становления нововременной науки. Именно тогда в экономике и обществе происходил процесс десакрализации и бывший «христианский мир» встал на путь научно-технического прогресса. Но в истории, как известно, «швов» не бывает, поэтому нельзя недооценивать тот объем информации, который накоплен в доньютонову эпоху. Праздностью средневековые историки никогда не отличались, и китайские в этом плане не исключение. Можно говорить о кумулятивном характере развития процесса познания окружающего мира человечеством. К тому же, если исторические и политические деятели могли в какой-то мере дистанцироваться от той или иной религиозно-философской системы, то перестать быть представителями определенной цивилизации они в принципе не могли. Это, собственно говоря, и демонстрируют так называемые европейская, китайская и другие историографические традиции. Менялись цели исторического исследования, его характер и методы, но обязательно сохранялась преемственность. Тексты этого периода, описывающие кочевников и их общество, на самом деле были написаны после исчезновения кочевой цивилизации, хотя часто и на основе в той или иной мере легенд и тех записей, которые велись представителями самих кочевников. Однако эти записи до нас дошли не полностью, что и позволяет назвать их классическую культуру безмолвствующей. Например, и «Ляо ши», и «Цидань го чжи» – это тексты не самих киданей, а о киданях. В этом плане называть их письменными источниками в реалии можно лишь условно, они скорее являются фактом историографии. Понятие «письменные источники» нельзя в данном случае и игнорировать, ибо эти тексты все же принципиально отличаются от текстов нововременных, для которых характерно преимущественно изучение киданей с позиций не столько религии или иной идеологии, сколько науки. Средневековые тексты написаны людьми, находящимися в принципе на той же стадии развития (традиционное общество), что и кидани. В них отражена фактически та же ментальность, что была присуща во многом и кочевникам или оседлым людям несколько более раннего времени. Мы, разумеется, можем брать из них какие-то факты, но не надо забывать, что сам подбор этих фактов, их сведение в единый текст осуществлены не киданями и потому представляют взгляд не самих киданей, а их соседей.
Стоит, наверное, добавить, что воспринимать любые средневековые тексты лишь как источники необходимой нам информации, это значит игнорировать взгляд их авторов на историю. Е Лунли или Абульгази-хан – такие же исследователи, как и наши современники, только у них, может быть, несколько иные задачи и методы исследования. И в этом можно увидеть влияние и следствие оседлоцентризма, европоцентризма, китаецентризма. Так часто делают не только европейцы, но китайцы или современные потомки кочевников. Мы понимаем, что они располагали наибольшей массой информации (не вся еще погибла на тот момент) и именно у них мы можем ее максимально найти, но мы должны рассматривать их и как исследователей, прежде всего (у которых, к тому же, было больше возможностей, чем у нас). Работа этих авторов особо значима, ибо они первыми реконструировали историю киданей, создали, так сказать, скелет. Часто последующим поколениям и этого хватает, но все же реконструкция XIII–XVI вв. – не весь «человек». Собственно историография может быть начата с нововременной эпохи, когда люди во многом уже иной культуры и ментальности пытаются понять кочевой феномен.
Методологически эта проблематика тесно связана еще с некоторыми методологическими дискурсами, в частности, с рассуждением о соотношении в истории и культуре «своих», «чужих» и «иных». Всегда выделяются особо авторитетные тексты (династийные истории, «священные тексты»), которые сосредоточены на создании имиджа «своих», который бы работал, прежде всего, в создаваемом ими собственном «мире». Остальные народы прочитываются через свою культуру, и во многом через этот имидж.