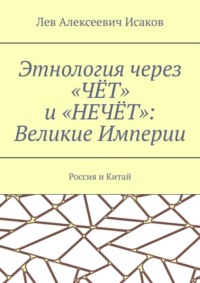
Этнология через «ЧЁТ» и «НЕЧЁТ»: Великие Империи. Россия и Китай
К удобству возражения на эту декларацию раздел г-жи И. М. Денисовой достаточно представителен, чтобы указать на необоснованность их позиции: и фольклор, и национально-бытовые традиции великороссов прямо свидетельствуют о наличии мощного пласта космологических представлений в основе древнерусского сознания, несмотря на столетия вымывания сохранившего свою задающую упругость в отношении выбора тем, сюжетов, предрасположенностей национального размышления. В пожелание автору следовало бы посетовать на отсутствие материалов по национальной астрономии; впрочем, изучение которых так и стоит на уровне 1950-х годов, все тех же «Стожар» и «Волосынь», «Коло» да «Лосих» – в обращении к Д. Садовникову она также проигнорировала заметное выпячивание как звездно-небесной тематики в составе загадок, так и еще более многозначительное использование небесной атрибутики в загадках бытовой сферы, выразительно говорящее об ориентациях уже и повседневного сознания.
К сожалению, всеядно-хаотический подход автора делает невозможной даже постановку следующего по важности вопроса: о ценностных ориентациях и базовых принципах оформления национальной донаучной космологии, которые в значительной мере вырастают из основного космогонического сюжета возникновения мира, оформляющегося в рамках мифологического сознания пранародности, из которой вырос этнос; создаваемая им мифология естественно взаимодействует с иными мифологическими системами, но никогда не превращается в их слепок-копию «основополагающих, надэтнических образов и идей», и большая близость разноэтнических сюжетов мифологического более свидетельствует за их исходную общность происхождения, нежели за «надэтническое устроение» мозгов их носителей. Основной космогонический миф может меняться, заменяться, уходить из наличного оборота, но его исходные принципы сказываются и на облике заместителя, и на вырастающем на его основе общем построении, которое в опосредованной форме продолжает развитие в заданных им направлениях, как и в преобладающих подходах – поэтому следствия могут многое рассказать об исходном толчке.
Для значительной группы народов Старого Света (индо-европейских, финно-угорских и др.) первой и древнейшей формой космологии была мифологема о возникновении мира как результата Священной Свадьбы яйцекладущих прародителей, у протоиндоевропейцев Священной Птицы (в ж.р.), обычно водоплавающей, и Мирового Змея (в м.р.); у угро-финнов преобладает вариант чисто птичьего сюжета (2 гоголя и т.д.).
Впрочем, этническая идентификация применима в данном случае только в плане сохранения этих сюжетов в этнических мифологиях, и не сверх этого. Само оформление сюжета свидетельствует об его сложении в охотничью эпоху; по отсутствию заметной сакрализации птиц в палеолите это скорее всего мезолит, на абстрактизированных «писаницах» которого впервые появляются изображения резко увеличенных водоплавающих птиц явно сакрального значения; типологически наиболее близких к лебедям или гусям. По установленному наличию ностратической общности языков, сложившейся в Старом Свете к 10 тыс. д.н.э., следы которой находят в основных языковых семьях как Старого Света, так и у потомков палеоазиатских народов, выселившихся около этого времени в Новый Свет (но не в Австралии, заселенной из Старого Света в 28—26 тыс. д.н.э.) этот сюжет может иметь почти всемирную адресацию; и в этой связи, учитывая «индоевропейский вариант» можно предположить, что необычная половая идентификация Неба и Земли в Древнем Египте имели не столько социально – «матриархальный» источник, но значительно более древний, восходивший к мифологической традиции 12—10 тыс. д.н. э. Но существенно, в каких направлениях он развивался уже в рамках развертывающихся этнических мифологий.
В пеласгийском варианте, усвоенном протаахейцами (так они заявляли, утверждая новую традицию и выметая остатки старой как «стороннюю порчу» – впрочем, лингвисты склонны находит в их языках сродство, как гипер – древнем и древнем варианте диалектов одного языка) после того как Эвринома закрутив взмахами крыльев смерч, втянувший первые воды, создает змея Офиона и сходится с ним в Священной Свадьбе, плодом которой стало Мировое Яйцо – между ними вспыхивает борьба за исключительное обладание им, т.е. за господство над рождающимся Миром. В итоге побеждает Эвринома, но Яйцо разбивается и мир возникает несовершенным, уродливым и преступным; и с точки зрения материнского, и особенно отцовского права, как породивший исходный раздор.
Поразительно, но в этом крохотном осколке предельной исторической глубины, где старое вино налито в еще более неизмеримой древности меха, может быть действительно подхваченном патриархальным ахейским обществом у побежденного народца, уже как в атоме присутствует грядущая политика и практика греческого полиса, не родившийся еще Гераклит «… Война отец всего, мать всего…
И грядущая антропологизированная эллинская мифология будет только развивать и расцвечивать этот мотив: Уран, карающий детей; Гея, замышляющая на мужа; Крон, оскопляющий отца; Зевс-сын, свергающий Крона… Исходная преступность мира задает трагически-надрывный мотив неотвратимого возмездия, Всемирного Рока, что сокрушит богов и людей, будь то тайна гибели Зевса, которую знает и хранит Прометей, или грядущий Регнарёк германо-скандинавской мифологии, о котором поют на всех собраниях скальды.
И в этом пункте начинается принципиальное расхождение славяно-русской космологии от родственных индо-арийской, германо-скандинавской, эллинско-римской, – она проходит мимо этого сюжета.
Сохранив очень плохо, стерто сам основной миф; преобразовав его в рамках квази-христианской символики в апокриф, как бог и сатана в облике белого и черного гоголя создали мир, один творя формы, а другой доставая материал со дна моря, она отчетливо сохранила сюжет основного мифа, снимающий изначальную вину с Миросозидателей и преступность с Мира. В сказке «Курочка Ряба», в отношении которой отечественные исследователи от А. Н. Афанасьева до В. Я. Проппа согласны, что это осколок основного космогонического сюжета, вина за несовершенство мира ложится на стороннего «преступника-заместителя», серую мышь и наказание за это следует немедленно: она исключена из обеих частей мира, верхне-птичьей и нижне-звериной/змеиной, на нее охотятся и птицы и гады. Возмездие осуществлено, справедливость восстановлена – Мир возник до срока, он несовершенен, но не преступен; на нем, как и на богах-миросозидателях, вины нет.
Славяно-русское сознание, в отличие от эллинского и германского было свободно от груза чувства изначальной вины и ожидания неотвратимого, никакими личными добродетелями не устранимого возмездия: гибели Мира и его Богов, хотя бы временной, уничтожением преступного поколения боговластителей и возникшей на скверне Вселенной – с их последующим возобновлением через сменяющее поколение уже безгрешных богов-детей (Бальдр, Видар, Вали в скандинавской мифологии).
Интересно сравнить, как решает вопрос об исходном «несовершенстве /преступлении» мира столь близкая к славяно-русской индоарийская космогония, в своем развитии полностью изжившая морфологемы ностратической древности; утвердившаяся в развитых антропологических формах, соответствующих отгонному скотоводству, патриархату, реальному социальному неравенству и порождаемому им ощущению неблагополучия, непрестанному «брожению умов». Мир индо-ариев тоже возникает трагически, через жертвоприношение бога Пуруши, из частей тела которого возникают элементы Макрокосма: солнце, луна, планеты, горы, воды… Но в отличие от скандинавского варианта, где превращение великана Имира в Макрокосм совершено преступным путем, убийством его богами Одином, Вали и Ве, что задает исходную греховность Мира, Пуруша совершает космическое самопожертвование из жалости к прозябанию богов и ради появления людей, чтобы им было где существовать. Мир трагичен, но в основе его печали лежит не преступление, а высокая жертва, он приносит страдание, но через сочувствие, не через ужас и отчаяние… Этот мотив очищающего самопожертвования потом перейдет в иудео-христианство.
Ничем подобным славяно-русское сознание не отягощено и прямо отрицая германо-скандинавский вариант, и будучи нередко увлеченным индо-арийскими мотивами, опосредованно влияющими через христианство, оно видит в них более высоту святости богов, нежели необходимое воздаяние в отвращение кары. В глубине великорусского сознания так и не укрепился мотив непрощаемого греха, не снимаемого глубиной раскаяния – чисто русский сюжет разбойника Кудеяра, смывшего кровь сердечной мукой. Русское мирочуствие не переносило конфликт социального в сакральную сферу. В 1684 г. восставшие стрельцы убивают молодого князя Михаила Юрьевича Долгорукова… и несут его тело отцу на отпевание. Вот характерно, возникшая в «бунташном» 17 веке пословица «От трудов праведных не наживешь палат каменных» не подразумевает отрицания социального неравенства вообще – подавляющее большинство знати той поры, и старой, и новой, во главе с царем Алексеем Михайловичем жили не в «каменных палатах», а в традиционных деревянных «хоромах» – налицо определенная социальная адресация в гнезда рвущихся выскочек, разрушающих «Мир», «Поганкины» да «Аверкины» палаты.
Славяно-русское мирочувствие, не разъедаемое воспоминанием об изначальной преступности мира, видело Космос Двуединым, дуальным – не дуэльным. Верх и Низ осознавались в общей картине равносогласованными, взаимодополняющими; не существующими друг без друга порождениями одного Яйца.
Выразительное свидетельство этого Двуединства без какой-либо «троичности» являют ритуальные восточно-славянские фибулы 7—8 в., в частности та, что приводит в своей монографии ак. Б. А. Рыбаков. Мировой континуум представлен на ней двуединой фигурой антропоморфного женского божества «верха» и (ящеро-/змее) -голового рептильноподобного божества «низа»; оба с соответствующей ориентацией, и кажется слившиеся в позе коитуса. Сакральное единство композиции подчеркивается 3 парами птичьих голов на длинных шеях, симметрично распределенных по краям фибулы, две верхних из которых повернуты в сторону головы «хозяйки белого света», а нижняя в сторону голову «хозяина низа». Означение третьего раздела мира отсутствует, т.е. если бы не христианско-православные пристрастия Бориса Александровича, он должен был бы объективно признать – для создателя-литейщика фибулы, и использовавшего ее в культе жреца-заказчика мир был «двуединым», без «троиц».
Выражением единства мира являлось наличие устойчивых связей его сторон, при этом в двух вариантах: через воду, когда осуществлялось как бы нисхождение в «тот мир» или «Море», являемое практикой похорон в «кораблях» пускаемых по рекам; продолжением которой стали захоронения в «колодах», уже в земле, но подобно лодкам-однодеревкам вытесывавшимся из цельного дерева; и наконец в сбитых дощатых гробах, которые долго, в память их «корабельного» прошлого смолили (сравни устойчивое словосочетание «гроб повапленный»), что даже оформилось в позднюю традицию приписывать смерти черный цвет – в древней Руси им был белый, впрочем, означавший и начало новой, посмертной, жизни, «чистой» от прежней.
В этой версии пространство над поверхностью земли «приписывается» как бы к «верху» мира.
Во втором варианте медиаторами всемирных связей выступают птицы, подобно сказочной Ногай-птице, которая выносит героя из «того мира» с чудесно-божественными признаками, куда он спустился или был сброшен, в «наш». Возникает вопрос, какое место занимает «наш» мир на «сакральной вертикали: в сказках птица «поднимает» героя из сакральной области в профанную. Но очевидна неувязка, летая по «тому» миру, сказочная птица почему-то не летает по небу «этого». Она «возносит» героя, но естественней, если бы она его «ниспускала» учитывая сверхъестественные маркировки «того» света и обыденные «этого», т.е. его мир был в действительности «нижним», земно-подземным, где она, летучая, неправомочна; и останавливается на его границе, т.е. на поверхности земли.
Впрочем, ритуальные фибулы 7—8 века определенно свидетельствуют, что в древности этой коллизии останавливающей границы не было и сакральные водоплавающие пернатые, подчеркнуто неприродные «гуси-лебеди» – русский крестьянин великолепно различал и никогда не путал тех и других – были равно прикосновенны к обеим частям мира, как птицы к Верхнему, как водоплавающие к Нижнему, как яйцекладущие к исходным началам мироздания. С этим сюжетом привлекательно согласуется иконография черных длинношеих двуглавых птиц, прослеживаемых на каменных соборах 12 в. Северо-Восточной Руси, никак не связанных с пресловутым «византийским гербом».
Здесь представляется возможным указать причину неподатливости славяно-русского материала внедрению идеогемы «мирового дерева» даже в убедительно обоснованной И. М. Денисовой, и возможно ждущей своего востребования форме «родовой пуповины» – если мир двуедин и органически целен, он не нуждается в разделительных структурах, как стабильных: Атлас, Мировое Дерево, так и возникающих: пуповина это уже зримые черты расхождения «детей» от «отцов»; в славяно-русской мифологии слитного мира ей нет места. В то же время аналогия «пуповины» снимает с образа Священного Дерева дюмезилеву идеогему «троичности», через него приписываемую и миру во всех случаях его появления в космологических текстах, что заслуживает внимания.
В своей обширной подборке г-жа Денисова указала на следы дуальной модели мира, как на занятный раритет, приведя соответствующие аналоги из восточно-славянской и германской мифологий; оценила их как некое изжитое историческое состояние, что совершенно недостаточно.
Уже само наличие иноэтнических совпадений, подобных циклам старогерманских сказок о «бабушке Гольде», в которых героиня (женский род – очень интересная деталь), попадая в колодец, вдруг оказывается на небе – должно было побудить исследовательницу к пристальному рассмотрению этого сюжета и на более широком материале и тогда она бы обнаружила массу реликтов «дуально-дополняющей» модели мира в развитых, и по настоящее время воздействующих на массовое сознание мифологиях, как-то: 2 класса богов (асы и ваны) у скандинавов; 2 класса богов, небесных и подземных, во главе с Юпитером и с Вейовисом, который сменит Юпитера в господстве над миром, почему именуется на посвященных ему Столетних Играх Юпитером Подземным и Грядущим, – у римлян; 2 класса богов в индо-арийской и зароастрийской мифологиях: адитьи и данавы, асуры и дэвы; разделение олимпийцев на 2 лагеря по поводу Троянской войны – ни в одном случае не образующие чистого «черно-белого» противостояния. Как выражение этого единства летящий двулезвийный топор-лабрис Критского Зевса той поры, когда он был олицетворением Единого Мира; миродержцем обеих его половин, Небесной и Земно-Подземной – не Зевсом Олимпийским, не имеющим права спуститься ни в Понт, ни в Аид.
Отрицая дуальность как жизнеспособный принцип космологии исследовательница просто уничтожает себе пути к основам древнерусской космогемы, все кроме плоско описательных.
Именно дуальная целостная ориентация «Мир-Чета» никогда не покидала древнерусского и старовеликорусского сознания, непрерывно присутствует в его духовном обороте, в идеологическом и бытовом окружении, чем они принципиально отличаются и от исторического ария эпохи Упанишад с Тримурти, и от современного украинца с Трезубцем.
До 17 века включительно весь мир для великоросса расцветал оттенками двух цветов: бытовавшая национальная система терминологии цвета основывалась на возведении всех цветов к двум, «белому» (небесный, холодный) и «черному» (земной, теплый) оформлявших 2 типологических равноправных класса; и даже в 12 веке эпитетом «красоты» в «черном» была «синева» в «белом», с чем связаны устойчивые сочетания «море синее», т.е. «море красивое», «море красное», как и «красное корзно» на князе символ власти, полученный от «Земли», отнюдь не «Неба». Идентификация по полу: «Небо-Отец», «Земля – Мать» вследствие уже вышесказанного может приниматься только как исторически переменная. Интересно тогда переводится в современные понятия титул Владимира Красно Солнышко – Владимир Земное Солнце.
Это сродство по классу иногда создает проблему неразличимости: только через устойчивое словосочетание «червоное золото» можно понять, что «червоное» это «красное»; но с какими стягами вышли московские полки на Поле Куликово понять уже невозможно – они «чормные». В результате возникают занятные аберрации: у современной художницы Ракши русский строй пламенеет всеми оттенками алого, как будто большевики собрались свергнуть Монголо-Татарское иго; у Самокиша черный стяг Дмитрия Донского создает впечатление общенародных похорон; а гений Павла Корина породил удивительное венозное сочетание красного с черным на стяге Спаса Нерукотворного, осеняющем Александра Невского на одноименном триптихе. В старорусской документации (и вплоть до 1861 года) «черный» означал «свободный», лишь государству обязанный, т.е. вроде бы как и «красный» с точки зрения реалий крепостничества…
Как бессмысленно противопоставлять «синее» «красному» в живописи, так и древнерусское, и наиболее последовательно сохранявшее его традиции старовеликорусское сознание не делает оценочных инвектив в адрес 2-х частей мира: готовясь отойти с Белого Света великоросс одевает белую посмертную рубаху; в подтверждение правдивости слов кладет на голову ком земли (и даже государство признает этот обычай в регламенте Генерального Межевания 1780-х годов). Сам термин «земля» признается лингвистами однокоренным со «змеей»; и по признаку близости с землей любимый народный герой крестьянин-пахарь Микула Селянинович «змеиный»; отцом древнейшего русского богатыря Вольги Всеславьевича прямо назван безымянный (можно понять – всем известный) змей; вплоть до конца 19 века, сокращаясь, в славяно-великорусских губерниях сохранялся обычай прикармливать молоком ужей. Впрочем, даже в 19 веке змей не исключался из соучастия и во всеобщем космическом устроении: в записанном в Смоленской губернии заговоре Змей-Гарадей «кует морскую глубину, небесну вышину, крайний зуб, хребетну кость»; по совпадению терминологии этот заговор восходит к 12 веку, к появлению Вщижской напрестольной скинии, где наличествует таковая.
«Всемирная дуальность» древнерусского сознания породила феномен древнерусской «двоичности» идеологии, эмблематики, символики, обшественной практики, нарождающегося естествознания.
Вплоть до Владимира Святого знаком Старокиевской династии был Двузубец, смененный при последнем на Трезубец – не будем выдвигать гипотез по поводу этого акта, они требуют сугубого внимания и места; Святополк, даже будучи христианином, тем не менее восстановил древнейшую символику; Ярослав вновь утвердил Трезубец – ставший знаком беды Старокиевской государственности и единой древнерусской народности.
Обычай креститься, в своей основе протоиндоевропейский языческий обряд, имеющий смысл «закрещиваю себя» от опасности, подобно русскому «пересеченному кресту» оберегающему от угроз со всех сторон, совершался 2-мя перстами, это было обращение-молитва двум [я] частям [и] Мира, Низу и Верху; и не глупость, а национальная традиция поднимала раскольничье двоеперстие над пламенем костров; как и 3 перста означали для них раскол-разрушение мира – «кукиш», ритуальную фигуру изгнания-истребления блазнящей нечистой силы.
Сам православный крест, равновесный греческий был воспринят как давно знакомый, – судя по позднейшей устойчивой традиции заговорные орнаменты на обшлагах, вороте и подоле одежды и в древности вышивались «крестом» – и столь же естественно на него перенесли и традиционное, не христианское (если не учитывать, что сам крест кроме т.н. «тау-креста» стороннее приобретение христианства) означение двух задающих дуальных пар полноты мира «Высота-Глубина» и «Широта-Долгота».
Выражением непреходящей старорусской «двоичности» становится уже и сама «троично-христианская» православная церковь, ее храм: в устоявшемся в начале 17 века типовом плане это «восьмерик на четверике». Иван IV был истовым христианином вплоть до редких среди русских владык вспышек религиозного фанатизма, но когда старорусская зодческая традиция вступала в конфликт с православным каноном – страдал канон; в домовой церкви Александровой слободы столкнувшись с проблемой, 8-гранное столпное завершение храма не позволяло равномерно распределить 12 апостолов на уровне «апостольского чина», поступил «по-русски», повелев увеличить апостольский чин до 24 фигур, добавив к евангельским персонажам 12 русских святых с тем, чтобы равномерно записать 8 граней, вместо того, чтобы осуществить несложную техническую задачу, перейти к 12-граннику – в совокупности это изрядно попахивает святотатством…
Если баснословный эпизод с глазами Бармы и Постника и имел место, то не за «лепоту» Храма Василия Блаженного, а за неслыханное для 16 века нарушение национально-русского канона, 9-главое «нечетное» купольное завершение вместо «четного» староотеческого, с какими построили деревянные соборы в Кижах безымянные носители национальной традиции 18 века.
«Четность сознания» проектировалась на нумерологическую оценку чисел: нечетные женские, плохие; четные мужские, хорошие. Так, в терминологии дней старославянской 6-дневной недели предшественницей которой была 8-дневная протоиндо-европейская, четные дни именуются в мужском роде, нечетные в женском – исключая понедельник и субботу, но эта коллизия уже связана с самостоятельным мифологическим сюжетом, слишком обширным для изложения и предполагающим полемику. (В 1999 году мной написано большое исследование о возникновении «недельного» конструкта кампутистики – увы, и по настоящее время не созрели условия к его публикации. Могу только оговориться, славяно-русская «суббота» и по термину и по символике НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к еврейскому «дню шаббат» не имеет – поверьте пока на слово названию западно-славянского святилища 1—11 в. «Субботка»). Эту связь «плохих», «женских», «нечетных» дней выразительно демонстрирует русская традиция недельных предохранительных постов: «понедельничать», «средничать», «пятничать».
Нельзя не отметить, что это уже не «дуально-дополнительная четность», а «четность конфликта», внесенного иным, христианским сознанием, но строй «недели» в основе своей остается «старо-четным»; «бес-четное» «воскресенье» своим средним родом выброшено из оценок «плохая – хороший», оно «никакое – чужое».
Здесь уместно остановиться на «троичности» сюжета русских народных сказок, которую считают наиболее авторитетным свидетельством о «троичности» сознания великороссов. Оставляя до лучших времен разбор всех вариантов, как и исторически обусловленный, не безотносительный характер этого феномена: древнейшие легенды ее не знают; в классических былинах она выражена слабо – следует отметить, что «троичность» сюжета имеет ядром, из которого она разрастается уже и на детали и на механику построения сюжета, конфликт 2-х против 1-го, т.е. дуально-групповой, при этом «парная группа» старшие, «одиночная» – младший. «Одиночка» по преимуществу подчеркнуто плохой, в обыденных оценках «дурак», «больной», «неумеха», «урод», старшие «положительны» – иногда распределение качеств противоположное; но во всех случаях это дуальное противостояние с многоплановой моралью: попрание интересов «младшего» и его восстание против старших; явление нового вопреки старому; рискованный успех или традиционное прозябание – но его разрешение достигается не утверждением, а ликвидацией «троичности». «Одиночка» оформляется как «беглец», процветающий где-то там, в социальных ли высях, тридесятых ли далях – в реальной обыденной жизни остаются «двое»:
«Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк…»
А на что ориентирует подобный результат? Как-то в околотке коньков-горбунков не наблюдается…
Уже будучи во внимании всей России генерал-фельдцехмейстер Г. Г. Орлов и генерал-аншеф и полный адмирал А. Г. Орлов стоя ждали, пока старший брат отставной штабс-капитан гвардии И. Г. Орлов сядет за стол и кивком головы пригласит младших…, игрались конечно, но только ли? Ведь между прочим 5 братьев Орловых вплоть до смерти старшего держали свои имения нераздельно под его управлением… Как и 5 братьев Гриневых, уже из иной эпохи описанных А. С. Пушкиным.
Сам по себе феномен «четности/нечетности» сознания, объективно выступающий в культурных артефактах, не вполне объясним через призму единственно идейно-исторических установок; признается, что в нем реализуется психология бессознательного, при этом и субъективно и этнообъективно, что отражается уже и на практически-стороннем, в частности на особенности становления феномена преднауки.
******
Только исходя из «дуально-двоичного» сознания можно объяснить феномен древнерусской «двоичной арифметики». Удивительно, на 367 страницах естественно-научной части «Древнерусской космологии» авторы даже не заикнулись о существовании таковой. Следует признать, что зарубежные исследователи придают этому достижению древнерусской культуры некоторое значение: в серьезных капитальных трудах по истории математики, упоминается об этом необъяснимом с точки зрения западного представления о состоянии древнерусского социума феномене – еще в конце 19 века крестьяне русского Севера пользовались двоичной системой счисления; естественно, унаследованной от очень отдаленных времен, куда как более ранних нежели ее официальное открытие на Западе в 18 веке Г. В. Лейбницем; и в начале 19 века Чарльзом Бэббиджем и Адой Лавлейс для предполагавшейся счетно-аналитической машины. Увы, г-да Симонов и К° или не знают, или игнорируют этот факт, о котором с должным почтением упоминает Н. Винер, отец современной кибернетики.