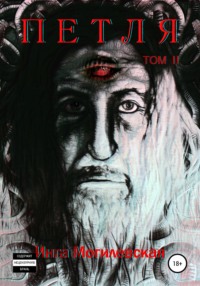
Петля. Том 2
Малыш не подает виду, что слышит или осознает слова брата, только его проворные пальчики, уже каким-то чудом добравшиеся до хитроумных внутренностей радио, вдруг застывают, сжимаются в плотные кулачки…
– Да не бросаю я тебя, chaq’, – мотает головой бесенок, поглаживая белое вздутое облачко волос. Осторожно встает, подкладывая ему под голову вместо своих колен подушку,– Я же сказал, буду прямо за дверью. Ну, если совсем плохо станет или начнешь засыпать, подай какой-нибудь звук, я сразу вернусь.
Следует за Тито, но прежде чем выйти, еще раз оглядывается на брата, снова: «Все в порядке, Сани. Я рядом»… – наконец, спускается на крыльцо, прикрыв за собой дверь.
– Он что, боится оставаться один? – спрашивает Тито, располагаясь на ступеньках и приглашая бесенка присесть рядом. Тот не садится: останавливается в метре от него, облокачиваясь на перила.
– Сани не верит в то, что он один. Ему постоянно мерещится, что рядом есть кто-то… кто-то, кто хочет напасть.
– С чего ты так решил? Он так сказал тебе?
– Он не говорит, – настойчиво повторяет бесенок, – Я просто вижу и понимаю.
– Ладно, пусть так. А с тобой ему спокойнее? Тебе он сразу поверил?
С полминуты бесёнок молчит, задумчиво потирая руки.
– А что ему оставалось? – говорит он, наконец, мрачным тихим шепотом, – Что вообще остается делать, когда понимаешь, что не сможешь справиться со всем этим в одиночку?
– Не знаю…Найти друга?
– Брата, – бросает на него по-взрослому серьезный взгляд, – Не друга, а брата.
– Да, конечно… Брата…Ну, а как насчет отца?
– Ты, что ли, про моего отца? – морщится бесенок.
– Ну, да. А что? Какие-то проблемы?
– Нет… Отец… Он, конечно, старается, только… Слишком уж старается – это заметно. Наверное, он просто жалеет Сани, хочет казаться заботливым и добрым… Только есть в этом сюсюканье что-то странное, неправильное. Он раньше не был таким. И со мной себя так никогда не вел. А с ним… Как будто считает себя в чем-то виноватым и пытается таким образом компенсировать. Поэтому брат в его присутствии как на иголках – не доверяет… Может, это со временем пройдет. Может, они еще привыкнут друг к другу. Но пока… Что-то с ними обоими не так… – он заминается, упрямо встряхивает головой, – Ладно, я не это имел в виду. Забудь.
Тито разглядывает напряженное лицо бесенка, изумляясь и ужасаясь тому, как он, ничего не зная, все-таки умудрился понять… почувствовать. Как же все-таки Хакобо недооценивает своего родного сына! А ведь это уже не ребенок…Сколько ему – одиннадцать? Да, без малого двенадцать – и уже не ребенок. Настоящий взрослый человек, тщетно пытающийся разобраться в спутанном клубке лжи, секретов и чувств, подобно своему братику, копошащемуся сейчас во внутренностях непонятного устройства. Разница лишь в том, что это устройство не причинит малышу страдание и вред, а вот раскрывшаяся перед глазами бесенка правда… Она не принесет ему ничего, кроме боли и лишних доказательств того, что никому нельзя верить. Никому. Даже родному отцу. А вдруг младший действительно что-то соображает и помнит? Вдруг он заговорит? Вдруг он все ему расскажет? Может, Хакобо был прав? Не ради него, а ради этих двух совершенно беззащитных перед правдой мальчишек, он все-таки должен что-то сделать.
– Бесенок, – окликает его Тито, немного коробясь – после таких серьезных слов это дурацкое детское прозвище вдруг кажется ему совсем неуместным, – Рамин, скажи, как у твоего братика в целом состояние?
– А ты что, сам не видишь?
– Кое-что вижу. Но ты провел с ним больше времени, чем я. Хочу услышать твое мнение.
Мальчик грустно кивает.
– Сани очень слаб. Сегодня утром ни с того ни с сего упал в обморок. И вчера несколько раз. Иногда у него из носа начинает течь кровь… Не знаю, может, это из-за жары, хотя я стараюсь прятать его от открытого солнца… Он… не любит, когда слишком ярко, так что, похоже, есть проблемы и с глазами. Но самое плохое – это спина. Раны снова жутко воспалились, а из-за этого температура постоянно поднимается. Сегодня вон, перед тем, как сюда ехать, все утро сбивали. Пришлось даже окунать его в ледяную воду и… Отец говорит, это может быть сепсис. Нужно не просто водой промывать, а какими-то средствами, которые только ты знаешь…
– Да, знаю, – подтверждает Тито, – Они у меня есть. Скажи, а судороги у него бывают?
– Бывают… Особенно во сне и после того, как просыпается… у него… Да, наверное, это похоже на судороги…
– Поэтому ты не хочешь, чтоб он сейчас хоть немного поспал?
Помедлив:
– …да, в том числе и поэтому.
– В том числе?
Надеется, что бесенок все-таки назовет ему остальные причины, по которым он жестоко лишает бедняжку бесспорно целебного и столь необходимого истощенному организму сна. Но тот лишь упрямо встряхивает головой: «Не важно».
«Не важно»… Вот уж, нет. Сейчас важно все: любая мелочь, любая деталь… Надо бы как-то объяснить это бесенку. Иначе он просто не сможет лечить покалеченное тело, не задевая при этом иные раны: невидимые но, наверняка, не менее болезненные.
– Ну, Рамин, все, что ты перечислил, конечно, плохо. Но Сани поправится. Это все пройдет, поверь. Это мы вылечим. Это я знаю, чем лечить. Однако меня волнует не только его физическое состояние. Я хочу знать, мучает ли его что-то помимо телесных травм, то есть…
– Ясно, – на сей раз резко перебивает его мальчик, и еще долго молчит, подозрительно разглядывая своего собеседника, прежде чем выдавить скупой и сухой ответ: – Да.
Тито медлит, ожидая дальнейших разъяснений, и так и не дождавшись, спрашивает сам:
– И… как это проявляется? Я вижу, Сани боится незнакомых. Но, может, есть еще что-то? Расскажи.
И в тот же миг лицо бесенка словно каменеет – становится твердым, скованным, застывшим, непроницаемым. Разве что глаза…Глаза, напротив – жгут – полыхают. Уставился на него, прямо как на врага.
– Зачем тебе? – спрашивает холодно, с ожесточением.
– Чтобы я мог помочь…
– И как ты в этом собираешься помогать?
– Не знаю…Для начала мне надо понять…
– Вот именно, – его кулаки решительно сжимаются, – Понять. Так что, это лучше ты мне все расскажи.
И он, немного озадаченный и напуганный такой резкой сменой тона и напором:
– Рамин, что рассказать?
– Что случилось с моим братом? Что с ним сделали? Почему он такой?
– А отец тебе, разве, ничего не сказал? – осторожно интересуется Тито.
– Отец мне наврал. Он сказал, что вы нашли Сани в сгоревшем доме, что вся его семья погибла в пожаре, и он очень долго жил там совсем один, в подвале… Вот только, если он жил один, то откуда такие увечья? Он не мог сам себя так покалечить. И это не следы от когтей животных – это следы от кнута, которым погоняют лошадей, следы от цепи, на которой держат псов… Его самого держали как животное… Или как раба. Его морили голодом. Его хотели забить до смерти. Кто с ним это делал?
Тито спешит отвернуться от его требовательного пытливого взгляда.
– Я не знаю, – шепчет он, разглядывая носики своих сапог, и улавливает в ответ лишь скептическое хмыканье.
– Ладно… Ладно… скажу… Твой отец не стал тебе это рассказывать… Наверное, чтобы не расстраивать. Но Сани, действительно, был в рабстве у плохого человека.
– Что еще за «плохой человек»? Гринго?
Чувствуется закалка Хакобо – то, как этот мальчик мыслит: раз плохой, значит только гринго. Никаких других вариантов. Впрочем, что тут можно ответить? Ведь не правду же.
–…Да, – подумав, кивает Тито, – Гринго.
– А зачем ему было держать в рабстве белого ребенка?
– Не знаю… Потому что он плохой…
Бесенок недоверчиво супится.
– Где он живет?
– Какая разница?
– Скажи, где!
– Да уже нигде… Жил в этом самом сгоревшем доме, но… он уже мертв.
– Вы с отцом убили его, чтобы спасти Сани?
– Да… Да… Мы убили его, чтобы спасти Сани. Да… Так все и было.
Тито с опаской поглядывает на бесенка. В конце концов, на эту версию истории приходится лишь одна ложь. Поверил? Трудно понять… Кажется, каменная маска начинает раскалываться, спадать, над бровью отчетливо прорисовывается хмурая складочка, и жгучие зрачки юркают вниз в смятении.
– Послушай, Рамин… Что бы там ни было, все позади. Теперь главное, чтобы и сам Алессандро это понял. Нужно помочь твоему братику адаптироваться к нормальной жизни и залечить раны прошлой. И в этом, нам придется скооперировать наши усилия. Ведь мы не враги. И ты, и я, и твой отец – мы все хотим Алессандро лишь добра. А, то, что он, бедняжка, сейчас всего на свете боится – это…
– Всего на свете?! – вскрикивает бесенок, будто задетый грубым, адресованным лично ему оскорблением – Мой брат – не трус, чтобы бояться всего на свете!
– Я и не говорю, что он трус…
– Хуже! Ты считаешь его неразумным и жалким…Воспринимаешь его как какого-то тупого забитого щенка… Так вот, ты его не знаешь! В нем нет ни йоты страха, когда он решает что-то сделать сам. Но когда, кто-то пытается что-то сделать с ним… Он… Он просто защищается. Знаешь, он ведь так и не подпустил к себе отца – ни разу за все эти дни. Не дал ему даже взглянуть на свои раны. И за руку укусил, когда тот хотел повязку сменить. Но это вовсе не страх… Это что-то другое… Что-то другое заставляет его упорно продолжать прикидываться зверем. Я не уверен, что он сейчас тебе просто так дастся.
– Посмотрим… – Тито тяжело поднимается на ноги, – Все равно это нужно сделать, чтобы предотвратить заражение. И, учитывая то, что ты мне сказал, с этим лучше не затягивать.
– Постой секунду! – голос чуть дрожит, – Скажи… Только честно, ему сейчас будет сильно больно?
– Нет… – машинально мотает головой Тито, потом неопределенно подернув плечом, все-таки добавляет, – Ну… будет чуть-чуть жечь первые две секунды. А потом вообще ничего не должен чувствовать.
Мальчик опять задумывается, не поднимая своего угрюмо потупленного взгляда, бормочет.
– Я хочу знать, как ты его собрался лечить, и что будешь делать.
– Хорошо. Ты не переживай. Еще раз повторяю – я твоему братику вред не причиню. Просто обработаю его раны настойкой из листьев чаках. Это лечебное растение, не яд.
– Сегодня не яд, завтра может быть и яд. Я не знаю толком ни тебя, ни твои мотивы и цели. А вот Сани вам не доверяет: ни тебе, ни отцу. И, может, у него есть на то причины.
– Рамин… Да какие причины? Я же тебе все рассказал. А Сани… просто еще не научился доверять.
– Послушай, допустим, я готов закрыть глаза на вранье отца и на то, что ты тоже что-то недоговариваешь… Но не скрывай от меня хотя бы то, что происходит сейчас. Я должен знать обо всем, что ты с ним делаешь.
– Ясно… Ясно. Я понял твою позицию… – кивает Тито, – Но прошу, поверь мне хотя бы один раз. Просто, чтобы я смог сейчас помочь Сани. Ты же за этим ко мне пришел, и сам понимаешь, больше некому. Но потом, когда будет время, я все расскажу, объясню, научу, и ты сам будешь решать, что нужно твоему брату, а что нет. Договорились?
– …Договорились, – неуверенно, но все-таки соглашается сын Хакобо.
– Знаешь, Рамин, я, если честно, собирался предложить, чтобы ты приходил ко мне на занятия. Я имею в виду не только врачевательство, а гораздо большее. Я видел, как ты увлечен книгами. Но далеко не всему можно научиться самостоятельно. А я как-никак был в свое время профессором,– он старается ласково улыбнуться, чтобы хоть как-то взыскать крупицу благосклонности со стороны этого сурового буки.
– То есть, настоящим профессором? – удивляется бесенок тоном, выдающим его непоколебимый скепсис.
– Ну, вроде как, настоящим. В университете биологию и естествознание преподавал.
– Вот как? А что ж ты бросил?
– Я не бросил. Просто решил, что свет образования не должен быть привилегией городских богачей. Думал попробовать себя в роли сельского учителя, но как-то не сложилось… Наверное, знакомство с твоими родителями отвлекло меня от сей миссии.
– У-у… И ты тоже стал революционером?
– Можно и так сказать, – кивает Тито, – Только революционер из меня оказался никудышный. Теперь вот хочу снова вернуться на свою стезю – передавать знания детям. В этом от меня будет больше пользы. Хоть не зря жизнь проживу. Так как? Не против стать моим первым здешним учеником?
Секунд 5 молчания, потом сдержанно:
– Посмотрим…
– Соглашайся, бесёнок. Станешь у меня по-настоящему образованным человеком.
– Ты только мне это предлагаешь? А как насчет Сани? Допустим, я соглашусь, я смогу приходить к тебе на занятия с ним? Ведь надо, чтобы и он тоже получал необходимые знания.
– Рамин… – он удрученно мотает головой, поджимает губы, подбирая наиболее мягкий способ объяснить мальчику, насколько это бессмысленная затея, – Рамин, ты, конечно, можешь приходить с ним. Я всегда буду рад его видеть и постараюсь сделать так, чтобы ему здесь было уютно и спокойно. Но учить его… Пойми, для твоего братика все эти занятия науками будут пустым сотрясением воздуха. Он ни слова не поймет из того, о чем я буду говорить. Зачем его зря мучить?
– Мучить?
Какое-то время мальчишка разглядывает его лицо, а потом вдруг, ни с того, ни с сего начинает смеяться – да еще как! И ошеломленно Тито осознает, что впервые за все время их знакомства видит бесенка смеющимся. Действительно, смеется почти так, как и положено детям – искренне, от души… Почти, да не совсем – он смеется над ним. Как взрослый над глупым лепетом карапуза: без злобы, но свысока… Потом так же внезапно замолкает – осекается, услышав, как с тихим скрипом приоткрывается входная дверь. Прильнув для опоры к косяку, белый малыш испуганно подглядывает в щель, явно встревоженный этим тоже не слышанным доселе смехом старшего.
– chaq’, все в порядке…, – бесенок поворачивается, намереваясь сделать шаг навстречу, но тут дверь раскрывается еще шире, и, точно чертик из коробки, наружу резко выскакивает трясущийся белый кулачок с судорожно сжатой в нем отверткой. Острый крестовидный кончик стержня, злобно поблескивая, целится прямо в грудь Тито. Нет сомнения, если бы у малыша было больше сил, он бы не замедлил кинуться с этим «оружием» на мужчину. Но, даже опираясь всем телом на косяк, он еле держится на своих хлипких подкашивающихся ножках, и все, что ему остается, это угрожать привидевшемуся врагу с расстояния двух непреодолимых метров. Застывший на мгновение в тугом напряжении воздух постепенно наполняется скребущей по костям вибрацией тихого хищного рычания. Он слышит это от малыша уже во второй раз. И все равно жутко. Даже непонятно, каким образом человеческое дитя вообще может издавать подобные звуки. Ни голосовые связки, ни язык, ни весь артикуляционный аппарат в целом, кажется, на это не способны. «Что-то заставляет его продолжать упорно прикидываться зверем…» – повторяет он про себя недавние слова бесенка. «Что-то»… Да уж, скалящееся острие отвертки бескомпромиссно указывает на причину.
– Не надо, chaq’, все хорошо…– вытянув вперед ладонь, Рамин осторожно приближается к братику, – Все хорошо. Тебе показалось. Он мне ничего не сделал, – и нарочито заслоняет собой, обомлевшего в растерянности Тито, – Он просто говорил всякую ерунду, вот я и засмеялся. Но он не опасен, Сани. Он нас не тронет. Отдай мне отвертку.
Кажется, теперь малыш не слишком верит брату. Или, скорее всего, опять не понимает его слова. Или…Черт знает, что происходит в этот момент в его несчастной головке, но попытка бесенка аккуратно забрать из рук братика инструмент пресекается внезапным пронзительным и визгом. Нервно и, по-видимому, инстинктивно взметнувшийся вверх металлический стержень проскальзывает в сантиметре от щеки бесенка.
– Осторожно! – не выдержав, вскрикивает Тито, но Рамин уже среагировал, уже ухватился за него, уже настойчиво и медленно вытягивает отвертку из цепких, но хрупких пальчиков брата.
– Все, chaq’, хватит… Хватит… Отдай. Ну же…Отдай это мне…– настойчиво взывает он, – Тебе пока не нужно защищаться. Опасности нет. К тому же, это не оружие. Этим ты никого не одолеешь, только разозлишь. Так что, отдай.
«А ведь он может без труда отобрать отвертку грубой силой, – не без доли восхищения думает Тито, – «Может просто вырвать ее, дернув сильнее, или заломить руку, заставляя маленького разжать кулачок. Это было бы ожидаемо – что ни говори, а деликатность, не в характере бесенка. Но, нет. Не хочет силой, все пытается достучаться, убедить. Это, конечно, правильно… Было бы правильно, если б не было бесполезно.
Но внезапно все само собой заканчивается: малыш останавливается, замирает, застывает, все его отчаянное сопротивление мгновенно спадает на нет, так, словно он выплеснул остатки сил на этот заключительный акт нападения, очевидное фиаско которого, не оставило ему иного выбора помимо мертвенно смирения. Высвободившаяся из увядшего бутона ладони отвертка, наконец, оказывается у старшего, а он, не медля ни секунды, протягивает ее Тито. «Убери. И чтоб больше не давал ему ничего такого!», – бросает он через плечо. Сам бережно обнимает братика, – Ну, и чего ты себе навыдумывал? Видишь же, все хорошо. Мы с Тито просто говорили. Успокойся, ладно? – проводит ладонью по его впалой поблескивающей от пота щеке. Потом, почувствовав что-то неладное, дотрагивается до белого лобика.
– У него опять сильный жар, – сообщает бесенок с нескрываемой тревогой в голосе.
Тито кивает:
– Да… Идемте в дом. Пора приступать.
Новое потрясение поджидает мужчину прямо за дверью, едва он успевает вслед за детьми переступить порог. Он даже теряется, не сразу осознав, что это за незнакомый, полный слащавого энтузиазма голос наполнил стены его пустого холостяцкого дома, и где прячется загадочный говорун. Потом его взгляд падает на радиоприемник.
– Быть не может… Но как…?
– Я же говорил, что он починит, – равнодушно протягивает бесенок, тоже покосившись на черный говорящий предмет на диване, – А ты не верил.
Не верил. И до сих пор не может поверить. И ведь ни треска, ни помех, ни шумов. Будто невидимка-диктор стоит прямо здесь, посреди комнаты, и самозабвенно вещает о наступлении нового времени – времени прекрасных перемен и воплощающихся надежд.
Скорчив демонстративную мину отвращения, бесенок выдергивает из радио провод, убирает его на пол, укладывая на диван своего окончательно впавшего в некий беспробудным кататонический ступор братика.
– Молодец, что починил, Сани. Но надеюсь, ты не успел наслушаться этих бредней, – говорит он малышу, заботливо убирая с его потного личика прилипшие пряди волос, – Если успел, то не верь ни единому слову. Все ложь…
Это последнее, что улавливает Тито. Далее голос Рамина понижается до неразборчивого шелеста, предназначенного лишь одному единственному слушателю. Наверное, успокаивает братика, утешает, хотя в этом, кажется, больше нет нужды.
«Да уж, чтобы верить словам, нужно понимать их, – печально думает профессор, выискивая на полках нужные банки с лекарствами и бинты, – А маленький, вон, лежит, уставившись в одну точку своими остекленевшими поблескивающими от жара глазенками безучастный и безразличный ко всему, кроме собственных внутренних страхов и мук. Что бы там ни говорил бесенок, ничего этот малыш не понимает. Ничего… Ну, разве что иногда – не сейчас, но хотя бы до этого – явно реагировал на интонацию речи бесенка. Видно, чуял искреннюю доброту и тепло, потому и тянулся к нему. Доверял. Бездумно, инстинктивно. Но так ведь и животные… Ласковый тон и псине понятен. Так и этот бедняжка… Да, наверное, в этом все дело – в интонации… Вот только радио – как-то же малыш его починил, как-то разобрался или… Ерунда. Конечно, ерунда… Просто случайно задел нужный проводок, или наугад что-то подкрутил, поймав частоту. Наверняка, проблема была в какой-то мелочи, и он сам, будь у него время и желание, мог бы исправить все за пару секунд. Так что, это ничего не доказывает… Но если это ничего не доказывает, тогда какие доказательства его удовлетворят? И хватит ли ему смелость принять эти доказательства? Не проигнорировать, не отмахнуться от них, а признать: да, маленький все понимает, и все знает, и… все помнит. Вздохнув, Тито отмеряет в стакан пару ложек жаропонижающего средства, разбавляет водой.
– Рамин, – подзывает он, прерывая тихий шепот мальчика. Тот послушно подходит.
– Дай Сани это выпить.
Вопросительный взгляд.
– Это чтоб понизить температуру, – объясняет Тито и, побоявшись, что бесенок может не ограничиться одним объяснением, на всякий случай добавляет, – Только сам лучше не пробуй. У меня этого лекарства не так много осталось, а Сани оно еще пригодится. Хорошо?
Хмурый кивок.
– Как выпьет, начинай его готовить к перевязке. Сними рубашку, старые бинты… или, чем вы там его обматывали… Пусть ляжет на живот. Я сейчас подумаю, что еще может понадобиться, и подойду.
Снова кивок. Молча берет стакан, собирается выполнить поручение. Но что-то в этом угрюмом безмолвии беспокоит Тито.
– Бесенок, – снова окликает он, – Ну, а как он вообще? Успокоился?
На сей раз мальчик мотает головой. Подумав, все-таки поясняет:
– Он сейчас затих, потому что ему дурно. Но уговорить его я не могу. Он даже не слушает. То есть, вообще не слышит. Поэтому, не рассчитывай, что все пройдет гладко.
– Что ты имеешь в виду?
– Не знаю… Он все что угодно может сделать… на что сил хватит, – подергивает плечами сын Хакобо, – Твое счастье, что он сейчас очень слаб. Но, все равно, береги пальцы, чтоб не укусил. И не подноси близко ножницы – может выхватить и пырнуть. А если у него случится срыв… – посмотрел на мужчину как-то пугающе серьезно и тут же опустил голову, – …тогда я не знаю, что делать, – договаривает он на выдохе, – … Посмотрим…
Что скрывалось под зловещим словом «срыв», Тито не представлял. Да и два других варианта, перечисленных бесенком, в данный момент казались ему невозможными. Краем глаза наблюдая за тем, как Рамин готовит бедняжку к предстоящим процедурам, он отмечает со стороны малыша все ту же нездоровую апатичную пассивность. Выглядит все так, словно старший играет в доктора со своей потрепанной матерчатой куклой, поя ее лекарством, раздевая, укладывая, разматывая с костлявого и в то же время по-игрушечному податливого и совсем безвольного тела слои тряпок. Лишь пара кротких, еле слышных «у-у» – отзвук потревоженной боли: нижние слои повязки местами присохли к ранам и никак не отлипают. Но ни единого намека на способность к сопротивлению.
– Бесенок, постой, не тяни, – просит Тито, – Надо размочить, чтоб легче отошли. Давай-ка теперь я.
И, прихватив стакан с водой, он потихоньку подходит к кровати. Чуть поколебавшись, Рамин отступает на пару шагов, неохотно уступая ему место рядом с братиком. Что ж, кажется, ему худо-бедно удается одолевать недоверие старшего. А что на счет младшего? Как бы там ни было, теперь все зависит только от него. Вперед.
Доброта… Доброта и любовь – вот верный подход. Маленький должен почувствовать это в его голосе, увидеть это в его не таящей угрозу улыбке. Пусть даже разум малыша необратимо изувечен, и он не способен воспринимать речь как таковую… Но дело ведь совсем не в словах, а в интонации… Ласковый тон понятен всем. И этот чудесный мальчик поймет. Обязательно поймет, да? Ведь у Рамина как-то получается. Вот и он с помощью любви и доброты сможет пробиться к его доверию, да?
– Да, солнышко? Ты ведь видишь, я не хочу тебе зла. Ты, ведь, мое солнышко,– произносит он как можно теплее и нежнее, склоняясь над ним. Его доброта чиста и подлинна: она исходит прямо из кающегося сердца, из сердца переполненного жалостью и сочувствием, из сердца, готового на что угодно, лишь бы помочь, исправить, искупить вину за содеянное…спасти… Черт возьми, просто спасти его!
– Прошу, доверься мне, детка… – улавливает затхлый запах болезни и гноя, старается пока даже не смотреть на обнажившиеся увечья – на них он еще насмотрится. Но сейчас нельзя допускать, чтобы это выворачивающее нутро зрелище хоть легкой тенью исказило его светлую улыбку или надломило тон, – Не бойся меня. Не нужно бояться. Ты же у меня такой чудесный, такой славный и такой храбрый. Миленький мой, я так хочу, чтоб ты поскорее выздоровел. Хорошо?
Лежа неподвижно на животе с повернутой набок головой, малыш смотрит на него широко распахнутыми не моргающими глазами. Тягучие черные дыры зрачков за твердым прозрачно-лазурным стеклом, слегка мерцающим от раскола в тысячи зеленоватых трещин… А где-то глубже, за всем этим буйством красок и контрастов – лишь мертвый, скованный в вечной мерзлоте взгляд нагого и немого ужаса.
– Хорошо, солнышко? Позволь мне помочь…
Осторожно, будто прикасаясь к хрупкой святыни, Тито проводит ладонью по его белоснежной головке, потом скользит вниз по безвольно вытянувшейся вдоль тела ручке, скорее чтобы убедится, что малыш еще здесь, еще жив. Никакой реакции. Только невыносимый жар, исходящий от кожи, да выпирающие ребрышки, что раздуваются и опадают в тревожно учащающемся ритме, разоблачают его танатозную защиту.