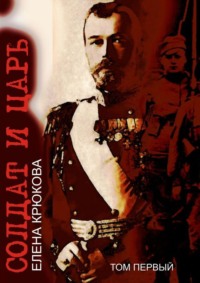
Солдат и Царь. том первый
Каждый свое сокровище с собой везет. Скарб на дорогах войны растеряется, сгорит. А тут еще революция. Все вместе, один огонь с одной стороны, другой – с другой.
Михаил толкся между полок, на них уже сидели, свешивая ноги, и лежали люди.
– Мишка! – заполошно кричал Люкин. – Греби сюды! Лезь, быстро!
Бил кулаком рядом с собой по самой верхней, под потолком вагона, багажной деревянной полке.
– Вон кака широкенька! Уместимся обое! А я бы, честно, не тебя бы предпочел, а вон ее!
Указал пальцем вниз. Михаил перевел глаза. Напротив него странно, в гуще человечьего дорожного ада, мерцало лицо. Широкие скулы раздвигают воздух. Сильный, торчащим кулаком, подбородок; плотно, в нить сжаты губы. Прозрачные серые глаза ожгли льдинами. Он только спустя время догадался, что лицо-то женское: слишком нежное для парня, для мужика слишком гладкое.
– Эй! – надсаживался Сашка. – Лезь сюды, девка!
Женщина, уперев ладони в колени, быстро встала, взвилась. И Мишка, и Сашка увидали за ее спиной острие штыка. А на боку – кобуру. И что она в серой, грубого сукна, шинели, тоже увидали. И плечи ее широкие, мужские – увидали.
– Это ты слезай, – сказала она просто и грозно.
Голос у нее оказался такой, как солдату надо: грубый, хриплый, с потаенными звонкими нотами.
– Сестренка… – Люкин утер нос кулаком. – Ну ты чо, сестренка… А то я спрыгну, а ты – кладись…
– Шуруй! – крикнул Михаил и махнул рукой.
Люкин спрыгнул мигом.
Они оба подсадили бабу-солдата на багажную полку. Женщина сладко вытянулась, стащила с плеча ремень винтовки; Лямин пристально смотрел на ее сапоги. Комья заледенелой грязи оттаивали в вагонном тепле. Грязь становилась потеками, темными слезами стекала по сапогам.
«Воевала. Где?»
Он чувствовал исходивший от нее запах недавнего пороха.
Таким уж, слишком твердым, было ее голодное лицо. А щеки около губ – нежными, как у ребенка.
Его голова торчала аккурат напротив ее бледной, медленно розовевшей щеки.
Женщина повернула голову и беззастенчиво рассматривала его. Тщательно, внимательно, будто хотела навек запомнить. Ему показалось, у нее между ресниц вспыхивает слезный огонь.
– Вы это, – Лямин сглотнул, – есть хотите?
Она молча смотрела.
– А то, это, у меня ржаной каравай. И… селедка. Сказали – норвежская!
Женщина закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, перевернулась на бок, лицом к винтовке. Обхватила ее обеими руками и прижала к себе, как мужика. Люди в вагоне орали, стонали, вскрикивали, и Лямин с трудом услышал в месиве голосов женское бормотанье.
– Ты не думай, я не сплю.
В полутьме поблескивал штык.
«Уснет, и запросто винтовку у ней отымут. Это лучше я буду не спать».
Подумал так – и с изумлением наблюдал, как Сашка Люкин укладывается на пол вагона, между грязных чужих ног, и уже спит, и уже храпит. Михаил сел рядом с Сашкой на пол, взял его тяжелую, как кузнечный молот, башку и положил к себе на колени, чтоб ему помягче было спать.
И сам дремал; засыпая, думал: «А ведь она сказала мне – «ты».
Колеса клокотали, били в железные бубны, встряхивали вагон. Они уже ехали, а им казалось, что все еще стоят.
…Командир отряда, Иван Подосокорь, над людскими головами, над чужими жизнями, стронутыми с места, кричал им, красным солдатам:
– Молодцы мои! Вы, молодцы! Дорогая дальняя, а вы бодрей, бодрее! Хорошее дело затеяли мы. Все мы! А кто против народа – тот против себя же и будет! Поняли?!
– Поняли! – кричали с другого конца вагона. – А где едем-то, товарищ командир?
– Да Вятку уж проехали. Балезино скоро!
– Эх, она и Сибирь, значит, скоренько…
– Да што языком во рту возишь, како скоренько, ищо недели две, три тащиться… глаза все на снега проглядим…
Много народу сошло в Нижнем. Места внизу освободились; баба-солдат слезла, встряхнулась, как собака, вылезшая из реки, дернула плечами, пригладила коротко стриженые волосы. Михаил уже ломал надвое темный, чуть зачерствелый каравай, тянул половину женщине.
– Протведайте, прошу.
Она усмехнулась, опять плечами передернула. Он вообразил ее голые плечи, вот если бы гимнастерку стащить.
Протянула руку и не весь кус схватила, а пальцами – нежно и бережно – отломила. В рот сунула, жевала. Глаза прикрыла от блаженства.
– Спасибо, – сказала с набитым ртом.
– Да вы берите, берите все.
– Ты добрый.
Взяла у него из рук и обеими руками отломила от половины еще половину. Ела быстро, жадно, но не противно. Рот ладонью утерла.
Глаза, серые, холодно-ясные, в Михаила воткнулись.
О чем-то надо было говорить. Колеса стучали.
– А вы… на фронте… на каком воевали?
– В армии Самсонова.
– Ах, вот что.
– А ты где?
– А я у Брусилова. Ранило меня под Бродами. Там наступали мы.
– Наступали, – усмехнулась. – Себе на судьбу сапогом наступили.
– А вы считаете, что, революция – неправа?
– Я? Считаю? – Ему показалось, она сейчас размахнется и в лицо ударит его. – Я с тобой – в одном отряде еду!
– В каком отряде? В нашем? В Подосокоря?
– Дай еще хлеба, – попросила.
Он протянул ржаной. Она ломала и ела еще. Ела, пока зубы не устали жевать.
– А пить у тебя нет?
Михаил смотрел ей прямо в глаза.
«Глаза бы эти губами выпить. Уж больно холодны. Свежи».
– Нет. – Развел руками. – Ни водки, ни самогонки. Ни барских коньяков.
Она засмеялась и тихо, долго хохотала, закинув голову. Резко хохот оборвала.
Люкин лежал у них под ногами, храпел.
Состав дернулся и встал. Люди вываливались, а вваливались другие.
– Ты глянь-ка, дивися, на крышах даже сидят!
– Это што. От самого Питера волоклись – так на приступках вагонных народ катился.
– Кого-то, глядишь, и ветерок сшиб…
– Щас-то оно посвободней!
– Да, дышать можно. А то дух тяжелый!
Бодрый, нарочито веселый, с воровской хрипотцой, голос Подосокоря разносился по вагону.
– Товарищи солдаты! Мы – красные солдаты, помните это! На фронте тяжко, а на нашем, красном фронте еще тяжелей! Но не опустим рук! И – не опустим оружья! Все наши муки, товарищи, лишь для того, чтобы мы защитили нашу родную революцию! И установили на всей нашей земле пролетарскую, верную власть! Долой царя, товарищи! Едем бить врагов Красной Гвардии… врагов нашего Ленина, вождя! Все жертвы…
Крик захлебнулся, потонул в чужих криках.
Женщина покривила губы.
– Про жертвы орет, ишь. Мало мы жертв видали, так выходит.
Лямин глядел на ржаную крошку, приставшую к ее верхней губе.
Она учуяла направление его взгляда, смахнула крошку, как кошка лапой.
– Может, мы и не вернемся никто из этих новых боев! – весело кричал Подосокорь. – Но это правильно! Кто-то должен лечь в землю… за светлое будущее время! За счастье детей наших, внуков наших!
– Счастье детей, – сказала женщина вдруг твердо и ясно, – это он верно говорит.
– Вы, бабы, о детях больше мыслите, чем мы, мужики, – сказал Лямин как можно вежливей. А получилось все равно грубо.
– А у тебя дети есть?
Опять глядела слишком прямо, зрачками нашла и проткнула его зрачки.
– Нет, – сказал Михаил и лизнул и прикусил губу.
Женщина улыбнулась.
– Этого ни один мужик не знает, есть у него дети или нет. А иногда, бывает, и узнает.
– Будем сильны духом! – звенел голос командира. – Уверены в победе! Победим навязанную нам войну! Победим богатых тварей! Победим врагов революции, ура, товарищи!
Весь вагон гудел, пел:
– Ура-а-а-а-а!
– Гладко командир наш кричит, точно лекцию читает, – передернула плечами женщина, – да до Сибирюшки еще долго, приустанет вопить. Смена ему нужна. Может, ты покричишь?
Лямин сам не знал, как вырвались из него эти злые слова.
– Я к тебе с заботой, дура, а ты смеешься надо мной!
Ноздри женщины раздулись, она вроде как перевела дух. Будто долго бежала, и вот устала, и тяжело, как лошадь, дышит.
– Слава богу, живой ты человек. И ко мне как к живому человеку наконец обратился. А то я словно бы в господской ресторации весь путь сижу. Только веера мне не хватает! Обмахиваться!
Уже смеялась, но хорошо, тепло, и он смеялся.
– А тебя как звать-то?
– Наконец-то спросил! Прасковьей. А тебя?
– Михаилом. А тебя можно как? Параша?
– Пашка.
– Паша, может?
– Пашка, слышал!
Он положил руку на ее руку.
– Пашка… ну чего ты такая…
Опустил глаза: через всю ее ладонь, через запястье бежал, вился рваный, страшный синий шрам. Плохо, наспех зашивал рану военный хирург.
– Что глядишь. Зажило все давно, как на собаке, – сказала Пашка и выдернула из-под его горячей, как раскаленный самовар, руки свою большую, распаханную швом крепкую руку.
* * *
Залпы наших батарей рвали плотный, гаревой ветер в клочки, и Михаил дышал обрывками этого ветра, его серыми влажными лоскутами – хватал ртом один лоскут, другой, а плотная серая небесная ткань снова тянулась, и снова залп, и снова треск грубо и страшно разрываемого воздуха.
«Будто мешковину надвое рвут. И ею же уши затыкают».
Глох и опять слышал. Их полк держался против двух германских. Слышно было – австрияки орали дико; потом видно, как рты разевают, а криков не слыхать.
Орудия жахали мерно и обреченно, в ритме гигантского адского маятника, будто эти оглушительные аханья, рвущие нищий земной воздух, издавала невидимая огромная машина.
Лямин тоскливо глядел на мосты через грязную темную, тускло блестевшую на перекатах мятой фольгой реку.
«Мосты крепкие. И никто их теперь-то не взорвет. И подмогу – по мостам – они, гаденыши, пришлют. Пришлют!»
Ахнуло опять. Под черепом у Михаила вместо мыслей на миг взбурлилась обжигающая каша, и хлюпала, и булькала. Показалось, каша эта сейчас вытечет в кривой разлом треснувшей от грохота кости.
…снова стал слышать. В дымном небе висел, качался аэроплан. Рота, что укрылась в кустах у реки, стреляла по авиатору, по стрекозино растопыренным дощатым крыльям.
«Ушел, дрянь. Спас свою шкуру».
Хилый лесок устилал всхолмия. Лесок такой: не спрячешься от снарядов, но и растеряешься среди юных березок, кривых молодых буков и крепеньких дубков.
«Лес. Лечь бы в траву под дерево. Рожу в траву… окунуть… об траву вытереть…»
Он нагнул лицо к руке, мертво вцепившейся в винтовку, и выгибом запястья зло отер пот со лба и щек.
Рядом с ним широко шагал солдат Егорьев, хрипло выплевывал из глотки не слова – опять шматки серой холстины:
– За всяким!.. кустом!.. здеся!.. зверь! Сидит!
И сам зверски оскалившись, умалишенно хохотал, то ли себя и солдат подбадривая, то ли вправду сходя с ума.
Грохот раздался впереди, шагах в ста от них.
Солдаты присели. Кое-кто на землю лег.
Егорьев сплюнул и зло глянул на продолжавшего медленно, будто по минному полю, идти Лямина.
– О! Вот оно и хрен-то!
Все солдаты смотрели на огромную, черным котлом, воронку, вырытую снарядом по склону лесистого холма.
– По нас щас вдарит…
Офицер Дурасов, ехавший поблизости на хилом, сером в яблоках, коне, спрыгнул с коня и передал ординарцу поводья. Обернул к солдатам лицо. И Лямин вздрогнул. Никогда он не видал у человека такого лица. Ни у тех, кто умирал на его глазах; ни у тех, кто сильно и неудержно радовался перед ним.
Из лица Дурасова исходил яркий, мощный нездешний свет.
– Полк! – заорал Дурасов натужно. – Полк, вперед!
Лютый мороз зацарапал Лямину потную, под соленой гимнастеркой, спину. Полы шинели били по облепленным грязью сапогам. Он бежал, и вокруг него солдаты тоже бежали. Этот бег был направлен, он так понимал, не от снарядов, а именно к ним, это значит, на смерть, – но в этот миг он странно и прекрасно перестал бояться смерти; и, как только это чувство его посетило, тут же справа и сбоку ударили перед ними еще три снаряда: сначала один, потом – сдвоенным аккордом – два других. Сильно запахло гарью и свежей землей, и вывороченными из земли древесными корнями.
– Полк! Бегом! – кричал Дурасов.
И они бежали; и Лямин глядел – а кто-то уже лежал, так и остался посреди этого молодого дубняка с разлитыми по земле мозгами, с вывернутыми на молодую траву потрохами; они, живые, бежали, и скатки шинелей давили на спины, и саперные лопатки втыкались под ребра, и котелки об эти лопатки стучали, грохотали, – и люди орали, чтобы заглушить, забить живыми криками ледяное и царское молчанье смерти:
– А-а-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а-а!
Дурасов опять вскочил на коня и вместе со всеми орал «ура-а-а-а!». Солдаты выбежали на поляну, опять скрылись в дубраве. И снова справа ударило.
«Шестидюймовый… должно…»
Все упали наземь. Лямин повернул голову. Разлепил засыпанные шматками земли глаза. Товарищи лежали рядом, стонали. Уже подбегали санитары, с черными, сажевыми лицами; укладывали раненых на носилки. Снова в небе мотался аэроплан. Авиатор высматривал позиции врага.
«Это мы – враг. А они – наш враг».
Мелькнула дикая мысль: а эта война, она-то людям на кой ляд?! – но времени ее додумать не было. Солдаты поднялись с земли и вновь побежали навстречу огню. Дурасов скакал на своем сером хилом коньке, и лицо у него тоже было черное, страшное, – беспрерывно орущее.
– По-о-о-олк! Впере-о-о-од!
Опять жахнуло, и вверх веером полетела, развернулась земля, попадали молодые дубки, и люди повалились на землю – и лежали, к ней прижавшись, ища у нее последней защиты, а Дурасову нужно было, чтобы полк шел вперед. Валились под осколками снарядов лошади под офицерами, и офицеры, раненые, откинувшись назад, медленно сползали с седел, и ноги офицеров путались в стременах, и лошади падали наземь и тяжестью своей придавливали офицерские тела, а раненые солдаты беспомощно раскидывали руки, царапая землю, беззвучно крича от боли, и земля набивалась им под ногти, под тонкую, как рыбья чешуя, жизнь.
Солдаты лежали, а снаряды свистели, падали и разрывались, и Лямин утыкался лицом в землю, остро и глубоко нюхая, вдыхая всю ее, как вдыхает мужик в постели бабий острый пот, и странно, зло и весело, думал о себе: а вот я еще живой.
Гремело и грохотало, и уши уже отказывались слышать. Глаза еще видели. Глаза Лямина схватывали все, как напоследок – как медленно, будто нехотя, с закопченными лицами поднимаются с земли солдаты, и старые и молодые, они теперь все сравнялись, возраста не было, времени тоже: была смерть и была жизнь, а еще – земля под ногами, развороченная взрывами, такая теплая, выбрасывающая из себя вверх, к небу, стволы и листья, будто желающая деревьями и листьями обнять и расцеловать вечно недосягаемое, холодное небо.
И тут Лямин сам не помнил, как все это у него получилось. Как все это взяло да случилось: будто само по себе, будто и не он тут все это содеял, а кто-то другой, а он, как в синема, наблюдал.
Он встал сначала на колени, быстро оглядел перед собою землю, лежащие недвижно и ворочающиеся в тяжкой боли, в предсмертье, тела, потом быстро, уткнув кулаки в землю, вскочил, обернулся к солдатам и офицерам, что еще на живых, еще не подстреленных конях скакали поблизости, крепче зажал в руке винтовку, поднял ее над головой и крепко, дико потряс ею, а потом разинул рот шире варежки и крикнул так зычно, как никогда в жизни еще не вопил:
– По-о-о-о-олк! За мно-о-о-о-ой!
Побежал. Сапоги тянули к земле, гирями висели. Ноги заплетались. Он старался их ставить крепко, мощно, утюгами.
– За веру-у-у-у! За Царя-а-а-а-а! За Отечество-о-о-о-о!
Бежал, на бегу прицелился и выстрелил из винтовки.
И рядом с ним свистели пули.
И он не знал, вражеские это пули или свои по врагу стреляют. Бежал, и все.
Бежал впереди, а полк, топоча, давя сырые листья и влажную пахучую землю, бежал за ним, и дубовые ветви били их по лицам, и лес то расступался, то густел, и падали люди, и оставались лежать, и бежали рядом, и просвистело слишком близко, Лямин скосил глаза и увидал, как подламываются ноги серого в яблоках офицерского конька, и вываливается из седла офицер Дурасов, как ватная рождественская игрушка, и тяжело падает головой в траву; фуражка откатилась, конь дернул ногами и затих, а Дурасов глядел белыми ледяными глазами в небо, будто жадно раскрытым мертвым ртом – выпить до дна все небо хотел.
– Ура-а-а-а-а! За Царя-а-а-а-а-а! – вопили рядом.
Все бежали, и он тоже. Его обогнали, он уже не бежал первым. Свежо и ласково пахло близкой рекой.
Они, кто живые, подбежали к окопам у реки, а вдали уже виднелись крыши деревни, и Лямин, по-прежнему сжимая в кулаке винтовку так, что белели пальцы – не разогнуть, видел – высовываются из окопов головы, освещаются измученные лица улыбками:
– Братцы! Братцы! Неужели!
– Ужели, ужели… – бормотал Лямин.
Он присел и сполз на заду в сырой, отчего-то пахнущий свежей рыбой окоп. Окоп был узкий, неглубокий, заваленный мусором, с плывущей под сапогами грязью.
– Братцы! Солнышки! Да неужто прорвались!
Обнимались.
Кто-то плакал, судорожно двигая кадыком. Кто-то беспощадно матерился.
Над окопом стояли спрыгнувшие с коней офицеры. Лямин видел перед глазами чьи-то мощные, как бычачьи морды, сапоги. Черный блеск ваксы, будто поверхность озера, просвечивал сквозь слои грязи и глины.
– Кто полк поднял в атаку? Ты? Имя?
Михаил сглотнул. Ему ли говорят?
– Ты, слышь, на тебя офицера глядять…
– Чего молчишь, в рот воды набрал? Аль не тебе бают?
– Лямин. Михаил. Ефимов сын!
Ему показалось, громко крикнул, а рот едва шевелился, и голос мерк.
– К награде тебя приставим! К Георгию!
Его тыкали кулаками в бока, стучали по плечам, подносили курево.
– Слышь… Георгия дадут…
– Дык ето он, што ли, вас сюда привел?.. Ох, братцы-и-и-и…
В пальцах, невесть как, оказалась, уже дымила цигарка. Он курил и ни о чем не думал. Сырая мягкая окопная глина плыла под сапогами, и он качался, как пьяный.
Гармошка деревенской свадьбы вдруг запела подо лбом.
Он отмахнулся от музыки, как от мухи.
– Милый… да милый же ты человек…
– Вот, ребяты, и смертушка яво пощадила… не укусила…
– Молитесь все, ищо бои главные впереди…
Лямин курил, и дым вился вокруг пустой, без единой мысли, головы.
Он и правда плохо стал слышать.
«Контузило, видать».
Вдруг рядом заорали бешено:
– А-а-а-а! Кровища из няво хлещеть! Вона, из боку!
Он выронил цигарку и изумленно скосил глаза. Ни удивиться, ни додумать не успел. Повалился в окопную грязь.
…его били по щекам, поливали водой из фляги.
Он открыл глаза и ловил струю ртом. Грязную и теплую.
…потом полили спиртом, у офицера Лаврищева во фляге нашелся; перевязали чем могли. Крови потерял толику, да вокруг резво, резко смеялись, скаля зубы:
– Царапина! Повезло!
Подбадривали.
Он смеялся тоже, так же хищно и весело скалился.
Странно чувствовал колючесть, небритость и даже бледность своих впалых щек.
* * *
– Не бойся… не бойся…
Он все шептал это, глупо и счастливо, а скрюченные руки его, собачьи лапы, разрывали слежалый лесной снег, пытаясь добраться до земли.
Солдат Михаил Лямин хотел закопать в зимнем лесу девчонку, испоганенную и убитую им.
Стоя на коленях, он все рыл и рыл руками-лапами холодное снеговое тесто. Рядом лежал труп. Девочка совсем молоденькая. Ребенок. Сколько ей сравнялось? Двенадцать? Десять?
«Рой, рой, – приказывал он себе, шептал стеклянными колючими губами, – рой живей. А то найдут, не успеешь грех покрыть».
Ощутил на груди жжение креста. Роющие руки убыстрили движенья.
Перед глазами мелькало непоправимое. Как было все?
…Ворвался в избу. Гулкие холодные сени отзвучали криком-эхом. Метнулись юбки, расшитый фартук. Набросился, будто охотился. Да ведь он и охотился, и дичь – вот она, не уйдет.
Девчонка успела распахнуть дверь в избу, да он упредил ее. Цапнул за завязки фартука, они развязались; схватил за плечо. Девка заверещала. В дверях показалась старуха, подняла коричневые ладони, закричала. Накинув девке согнутую руку на шею, другой рукой вытащил наган из кобуры. Бабка упала и захрипела. Девчонка хныкала. Он связал ей руки бабкиным платком. Вытолкал со двора, как упрямую корову.
Гнал в лес: она, босая, семенит впереди, он – стволом нагана тычет ей в лопатки.
«Черт, мне все это снится! Снится!»
Ноги и его, и ее вязли в снегу. Потом неожиданно тихо и легко заскользили по твердой и толстой наледи.
«Ух ты, я как по морю иду. По воде! Ешки, как Христос!»
Так скользили меж кустов. Обмерзлые ветки били девку по глазам. Она защищалась связанными руками.
Так же выставила, защищаясь, вперед руки, когда он решил: все, тут можно, – и ударом кулака повалил ее на снег, в сугроб.
Ее голова утонула в сугробе. Он дрожал над безголовым телом. Она силилась повернуться со спины на живот. Дергала руками, хотела разорвать узел платка; но связал он крепко. Сучила ногами. Михаил рвал на себе ремень, портки.
Обсердился, выхватил из-за голенища нож; быстро, твердой рукой, разрезал на девке кофту, платье. Нож обратно засунул.
…Разодрал, как курицу, под густо усыпанным снегом кустом.
Слышал свое хриплое дыханье. Легкие гудели старой гармонью.
Девка сперва дрожала, кричала, потом паровозом запыхтела; он налег ей на губы небритой щекой, чтобы заглушить крики. Она укусила его в щеку. Он, продолжая ее сжимать и терзать, заругался темно. Потом уткнулся носом ей за ухо. Туда, где сладко и тонко пахло нежным, детским.
…Отрядный крикнул – он узнал его голос:
– Лямин! Балуй! – как коню.
…И это была всего лишь война; всего лишь сон; всего лишь зажженная и погасшая спичка, – а он так и не успел прикурить, не успел насладиться.
* * *
Германцы прорвали фронт на ширину в десять верст.
Германцы торжествовали. Они бежали по полям, по пригоркам, даже и особенно не таясь, не пригибаясь, – наперевес держа винтовки, с перемазанными грязью и пылью рожами, перекошенными в почти победном, торжествующем крике. Кричали взахлеб и бежали, и Михаилу казалось – под их ногами гудит земля.
Белый день, и ясное солнце, и при таком чистом, ясном свете видны до морщины все лица – изломанные воплем и искаженные болью. Русские солдаты выскакивали из окопов как ошпаренные. Враги не набегали – наваливались. Шли серой волной.
А перед волной шинелей моталась и рвалась волна огня.
Лямин, сморщившись от боли в недавней ране, перескочил через убитого, через другого, запнулся, повалился на колено, вскочил.
– Австрияки-и-и-и-и! – как резаное порося, вопили солдаты.
Кроме штыкового боя, их не ждало ничто; и штыковой бой начался быстро и обреченно.
Лямин бессмысленно оглянулся. Губы его вылепили:
– Батареи… где же… пулеметы… ребята…
Германцы катились огромной серо-синей, почти морской волной. Живое цунами оседало. Спины горбились. Штыки вонзались в шеи и под ребра. Вопли русских и вопли врага слепились в единый ком красного, горячего дикого крика.
И тут заработали пулеметы. Лямин размахнулся, всадил штык в идущего на него грудью австрияка – и рухнул на колени, и шлепнулся животом в грязь.
«Еще не хватало… чтобы свои же… подстрелили… как зайца…»
Ор взвивался до небес. Небеса глядели пусто, голо, бело.
Слишком ясные, безучастные плыли над криками небеса.
Германцы бежали и бежали, и рубили воздух и русские тела штыками, и остро и солено пахло; Михаил раздувал ноздри, скользко плыла вокруг рук и живота земля, и солью шибало в нос все сильнее, солью и сладостью, и вдруг он осознал – так пахнет кровь.
Ее было уже много вокруг, крови. В ней скользили сапоги. Ее жадно впитывала, пила земля.
Земля сырела от крови. Михаил скосил глаза: рядом стоял офицер Лаврищев, он палил из револьвера куда попадется – в белый свет, как в копеечку.
Лаврищев стрелял зажмурившись. Плотно, в нитку сжав губы. Лаврищев не видел, как на него тучей под ветром несется австрияк. Широкий, как таежная лыжа, штык уже рвал гимнастерку и вспарывал тело. Лямин воткнул австрияку штык в живот. Враг повалился, он падал слишком медленно, и медленно, смешно падала его винтовка. Упали вместе. Лаврищев разлепил белые пустые глаза.
– Что… кровь?.. – невнятно сказал Михаил и протянул руку к подбородку офицера.
Лаврищев зубами прокусил себе обе губы.
По губам Лаврищева, по подбородку текла кровь и стекала по шее за глухо застегнутый воротник гимнастерки.
– Ваше благородие… – прохрипел Михаил и непонятно как и зачем, нагло, глупо, ладонью вытер офицеру кровь с губы.
И тут раздалась трещотка выстрелов – сзади ли, спереди; колени Лаврищева подкосились, и он повалился в грязь рядом с убитым Ляминым германцем.
Он и мертвый продолжал дико, железно стискивать в кулаке револьвер.
Солдаты выскакивали из окопов и опять валились туда. Кто: наши, враги, – уже было все равно. Из окопных ям доносились крики и хрипы. Лямин увернулся от летящего ему прямо под ребра штыка, сам быстро и мощно развернулся и ударил. Штык вошел в плоть, Лямин резко дернул винтовку назад и выдернул штык из тела врага. Под ноги ему валился мальчик. Лямин ошалел. Отшагнул. Ловил глазами ускользающие глаза подростка-солдата. Юный австрияк, выронив винтовку, шарил скрюченными пальцами по воздуху.