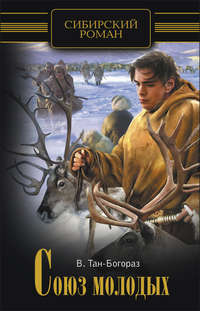
Союз молодых
– А как же? – настаивала Дука с важностью, – взять хоть у нас на Веселой. Все у нас братья да сестры, кои двухродные, а кои трехродные. И всего у нас два имени, Щербатые да Кузаковы.
Викентий не нашелся, что ответить. Мир Дуки был узок и мал, как лужайка в лесу, и все населявшие его были, действительно, братьями. Они цеплялись один за другого, как белки зимой в дупле, и могли сохранять искру живого тепла, только согревая друг друга, как живая и мягкая гроздь.
Дука тоже помолчала и посмотрела на российского пришельца весело и вместе нерешительно. Мысли ее теперь устремились к более близким предметам, чем охота в «Российском».
– Ты сильный? – спросила она наконец и без особых церемоний дотронулась пальцем до мускулов юноши, торчавших под замшей рукава, как упругие, ядра.
Викентий кивнул головой.
– А дерево вырвешь?..
Викентий молча ступил вперед, схватил молодую березку и внезапным усилием выдернул ее из земли вместе с корнями.
– Огой!..
Любознательный палец поречанки поднялся выше, чем прежде, и дотронулся до груди российского пришельца, белевшей из-под раскрытого ворота.
– Какая волосатая!.. – сказала она с детским любопытством. – Однако от этого сильный… Медведь волосатее того, а как высоко скачет, – прибавила она с очаровательным простодушием.
Викентий невольно рассмеялся.
– Мы и медведям заедем, – сказал он весело. Он чувствовал себя с Дукой удивительно просто. Словно ему было десять лет, а ей восемь, и они собирались играть в «охотника и зверя» на ближней лужайке за этой корявой избушкой.
С той ночи Ружейная Дука стала часто подходить к домику, покрытому холстом. Она забрасывала юношу вопросами об этом неведомом «Русском», «Российском», откуда в досельное время излился источник ее собственной крови.
– Что это, город большой?.. Больше Середнего, в три раза, в сто раз?..
И недоверчивым удивлением она встречала сообщение, что «Российск» – это вовсе не город, а огромная страна, сотни городов, тысячи селений, а в самых больших городах есть тысячи домов, а каждый дом в шесть рядов, как клетки в осином гнезде, и в одном только доме больше народу, чем на целой реке Колыме.
– Тысячи, тысячи тысяч, – звенело в ушах у наивной дикарки. Ей представлялись несметные толпы людские, кишащие на улицах, как толкун комаров, в шесть рядов, одни над другими, ибо места на всех не хватает.
– И достает на них рыбы, – спросила она с недоумением. – Где же это они все ловят?..
И Викентий в ответ пояснил, что все они питаются не рыбой, а хлебом…
– Хлебом, – с уважением переспросила русская дикарка. – Угу, какие богатые!..
Ибо на заимке Веселой и на всей Колыме хлеб был предметом недосягаемой роскоши, доступной только на Святках и в весеннюю Пасху, и то для немногих.
Мысли ее опять перешли к другому предмету, более достойному внимания, чем хлеб или рыба.
– А девок у них много? Больше, должно быть, чем парней?
– Почему больше? – переспросил с удивлением Викентий.
– У нас видится больше, – простодушно объяснила Дука. – Мы вот четыре сестрички, а братца так нету. А какие у них девки, хорошие, должно быть? – сказала она и нахмурила брови.
Викентий усмехнулся.
– Бывают худые, а бывают хорошие – такие, как ты…
И немного неожиданно для самого себя он протянул свою крепкую руку и положил на плечо Дуки Щербатых.
Но Дука отшатнулась, как уколотая, и сбросила прочь эту широкую ищущую руку.
– Не трогай! – крикнула она, и лицо ее залилось горячим румянцем гнева и вместе стыда. – Ступай к своим хорошим… – На следующий вечер она не приходила и даже не явилась поутру. Викентий прошел по тропинке мимо избушки Щербатых и наткнулся на Дашу.
– Ищешь? – спросила она игриво и сердито. – Победа твоя уехала на Чиркинскую косу. До утра не вернется… А я разве хуже? – спросила она с задорной улыбкой. – Я сладкая, – прибавила она просто и даже по-своему скромно.
– Хуже, – угрюмо ответил Викентий и повернул к своему дому.
IV
Два дня и две ночи Дука не являлась у заимки на домашнем берегу. Викентий все заглядывался вдаль на широкую воду, не гребет ли с заречного берега знакомая черная лодка. Лодки приходили, но не такие, как надо.
На третий день около полудня вместо одной лодки вдали показались четыре. Они были странного вида, и на каждом носу неясно мелькали такие-то особенные мачты, кривые, с ветвями.
– Сохатые плывут! – раздался волнующий клич.
То была семья лосей, переплывающих реку. Ветвистые мачты были попросту высокие головы зверей, увенчанные ветвистыми рогами. Такие переправы через реку случаются нередко, порою у самых поселков. Когда нападает комар или овод, полуослепленные звери готовы вскочить в охотничий костер или забежать в избу.
Поселок загудел, как потревоженный улей.
– Сохатые, мясо!..
В летнее время все поречане питаются рыбой, но мечтают о мясе чувственно и страстно, порою почти до истерики. Ибо жирная рыба приедается даже собакам.
Люди сходили с ума от азарта. Ведь это была добыча с горячей кровью, мясистая, живая, какая зажигает охотничий пыл у самых ленивых и старых. И, по старой примете, выпустить ее из рук – значило выпустить счастье и на целое лето привлечь на поселок охотничийурос (неудачу)…
Старики и подростки, все, кто только имел руки, чтобы взяться за весло, посыпались с горки на берег. Лодки, челноки, душегубки отчаливали одни за другими на широкую вольную воду. Женщины, дети, собаки бежали по берегу с криком.
Увлекаемый общим движением, Викентий Авилов тоже сбежал к берегу, но все челноки и легкие «неводные» лодки были разобраны. Недолго думая, он сбросил куртку, столкнул в воду большую «кочевную» лодку, назначенную для перевозки груза, сел «в греби» и поехал наперерез к рогатой добыче. Он греб «по-российски», широкими, редкими взмахами, в отличие от местного приема «мельницей», частой и мелкой, с каждым взмахом «сушил» весла и снова налегал с удвоенной силой. Трещали уключины, подозрительно скрипели жидкие набои, сшитые лозой, но лодка «бежала прогоном», прямо, как по шнуру, поминутно выскакивая носом из воды не хуже плывущего лося. И мало-помалу Викентий Авилов стал обгонять весельчанских гребцов в их легких челноках. Они смотрели на него с удивлением и даже со страхом. Длинные кочевные греби в руках Викентия Авилова стали рычагами совсем необъятных размеров, и другие поневоле сторонились от него, как сторонятся мелкие шхуны от черного большого парохода.
Головы сохатых выступали над водою яснее и яснее. Они казались на воде неестественно большими, и ветви рогов были как сучья деревьев, унесенных вниз половодьем. Звери беспокойно поводили горящими глазами. Они вздрогнули, остановились, заметив наконец флотилию судов, наезжавших от берега.
Но самые проворные охотники в легчайших челноках уже описали огромный полукруг и теперь заезжали с тыла, с заречной стороны. От острова Косого, с Чиркинской тони, тоже выплыли трое в узких душегубках, из тоненьких досок, не толще бумажного картона. Такие душегубки называются «ветками». Они сшиваются волосом из трех длинных досок и весят не более пуда. Лоси нерешительно остановились в средине струи, не зная, что делать. Челноки налетели, как осы. Длинные изогнутые весла с двойными лопастями были вооружены тоненьким железным кодайцем, похожим на жало, и охотники могли тем же взмахом гребнуть и нанести удар. Впереди всех, в узенькой «ветке», похожей на длинную коробку, мчалась Ружейная Дука. Черные волосы ее выбились наружу из-под алого платка и висели по щекам направо и налево. Одна прядь, необычайно длинная, повисла через борт и с каждым движением «ветки» погружалась в рассекаемые волны.
– Агай, агай! – вырывался из звонкого горла старинный охотничий клич, усвоенный русскими, должно быть, от чуванцев.
Викентий тоже подъехал вместе с заречными. Он выбрал себе самого крупного лося, схватился за карман и тут только заметил, что оставил кожаную куртку на берегу вместе с оружием. При нем не было даже ножа, хотя бы перочинного. Он вскрикнул от досады, глаза его гневно блеснули, и плавным ударом своих длинных гребей он разогнал «кочевную» и наехал огромному зверю прямо на спину. Зверь, беспомощный в быстро текущей воде, погрузился под воду, потом вынырнул и стал поворачивать в сторону, фыркая и отдуваясь. Но дерзкий охотник протянул свои длинные руки и схватил огромную добычу за широкие рога. Лось даже не отбивался, быть может, он чувствовал силу клещей, нажимавших на голову сверху. И так они поплыли вниз по воде, странно соединенные вместе, охотник и лодка и живая добыча, совершенно невредимая, но связанная быстро текущей ризой воды.
– А-ла-гай!..
Ружейная Дука черкнула левой лопастью весла по воде, скользнула вперед, как будто дно ее «ветки» было натерто маслом, а правою лопастью кольнула ближайшего лося под левую лопатку Зверь захрипел и ткнулся головой в воду, потом опрокинулся набок. Мелькнуло беловатое брюхо, длинные ноги брыкнулись предсмертною судорогой, и одна из них задела за борт челнока бесстрашной охотницы.
Борт раскололся, как стенка у спичечной коробки, Дука выпустила весло и опрокинулась в воду, и тотчас же схватилась руками за потопленную «ветку», но «ветка», лежащая боком в воде, нырнула и ушла из-под рук.
– Солнце, потопаю! – крикнула Дука отчаянно и захлебнулась в холодной струе.
Русский поречанин поклоняется солнцу не меньше туземцев и в трудные минуты взывает к нему с языческой верой. Солнце – истинный бог холодного севера. Может быть, это старый славянский Ярило, привезенный из вятских лесов первыми посельщиками.
– Спасайте, православные! – крикнула Дука еще раз.
– Ио-о! – в ужасе взвыли другие охотники.
Ружейная Дука была как бы воплощением охотничьего пыла, Дианой заимки Веселой. Однако ни один не дерзнул приблизиться. Протянуть утопавшей хоть кончик весла из верткого «стружка» – значило очутиться тотчас же в воде вместе с нею.
Колымские жители купаются редко, а плавать совсем не умеют. И все-таки ездят в своих деревянных скорлупках и стараются не опрокидываться. Но каждая большая водяная охота уносит свою жертву.
– Дука, держись! – крикнул Викентий Авилов, с треском поворачивая лодку и с силой налегая на свои неуклюжие весла.
– Ах!..
Правая уключина не выдержала и выскочила из гнезда вместе с ивовой дужкой весла.
Дука опять вынырнула, на этот раз спиною. Руки ее судорожно взбивали воду, ища за что бы ухватиться.
Викентий Авилов в мгновение ока вскочил на ноги. Звякнули подковы сброшенных сапог, и тяжелое тело шлепнулось в воду, вздымая высокие брызги, как тело огромного сиуча, нырнувшего в море с утеса. Поречане смотрели на эту неожиданную сцену, затаив дыхание. Викентий вынырнул, отфыркнулся и поплыл, широко забирая саженями по воде. Минута, и он очутился на месте катастрофы, поднялся по грудь над водой, увидев пунцовый платок, мелькнувший впереди, нырнул, ухватил… И вот он уже возвращается обратно, запустив свою руку в густую и мокрую косу и поддерживай голову утопленницы над уровнем воды. Еще через минуту он был у своей «кочевной», как-то особенно ловко перебросил Дуку через борт, поднялся на руках через корму, наскоро сделал на месте уключины петлю из обрывка волосяной веревки, вложил весло и погнал «кочевную» к берегу.
Охотники немного задержались на месте, посмотрели ему вслед, но не поплыли к берегу, а повернули вниз по реке ловить сохачиные туши. Ибо все четыре лося были все-таки заколоты, и туши их отнесло по течению вниз почти на полплеса.
Викентий вынес на берег бесчувственную девушку и отнес ее вверх на угорье. Мокрый след оставался за ним по дороге. Он снял с нее верхнюю кофту, потом повернул ее вниз головой, чтобы вытряхнуть проглоченную воду. После того он стал ее встряхивать на руках, как малого ребенка. От этих внезапных и резких движений мог бы проснуться не только обмерший утопленник, но даже настоящий покойник. Веки Дуки вздрогнули, руки судорожно сжались. «О!» – простонала она потихоньку. Викентий еще раз встряхнул ее тело, потом отнес ее под холщовую кровлю и уложил на шкурах. Он снял с нее мокрое платье и также развязал ее сокровенный пояс. За неимением простынь он завернул ее в свою собственную рубаху.
С того дня Ружейная Дука стала очелинкой, любовницей русского пришельца, Викентия Авилова. Мать ничего не сказала, ибо он утверждал свое право на Дуку вдвойне: развязанным поясом и собственной рубахой. Впрочем, на третье утро Дука ушла из-под холщовой кровли в материнскую избу, да там и осталась. К Викентию она прибегала в разное время, чаще всего на повороте солнца, когда все живое забирается в тенистые и темные углы и дремлет бесшумно и чутко. В такие часы люди, и звери, и птицы стараются соединяться парами. Гуси тихонько гогочут, крохали[7], отдыхающие на заводях, крякают сонно и слабо и крепче прижимаются друг к другу. Викентий ловил эти скрипучие и ласковые звуки и тоже прижимал к себе дикую красавицу, и ему казалось, что он обнимает не женщину, а птицу. Она целовала его бешено, страстно, впиваясь зубами в его крепкую мохнатую грудь, потом неожиданно вскакивала с постланных шкур и словно улетала на крыльях в открытые двери.
В одно утро, покинутый быстрою Дукой, Викентий Авилов взял шапку и пошел по тропинке на другой конец заимки к той же знакомой избушке Натахи Щербатых. Старуха не спала. Она вышла на двор в кожаной юбке и странной повязке, сшитой из меха, как шапка, с прорезом на темени, и стала чинить развешанные сети вязальным челноком из мягкого дерева ивы.
– Челом! – угрюмо сказал Викентий, кланяясь девичьей матери.
– Тебе здорово! – сказала Натаха, кивая повязкой. – В избу пойдешь? – предложила она, приглядываясь к лицу гостя.
– Тут хорошо, – буркнул Викентий.
– Слушай, старуха, – начал Викентий Авилов сурово и прямо. – Отдай мне твою дочку!..
– Не дам! – коротко отрезала Натаха и тряхнула головой.
– Она меня любит, – сказал в пояснение Викентий.
– Пускай любит, – вдруг усмехнулась старуха. – Доброе дело… Может, казаченочек найдется…
– Найдется, так мой, – ответил Викентий угрюмо.
– Полно! – игриво сказала Натаха Щербатых. – Чей бы бык ни скакал, а теленочек наш…
Бесстыдная философия северного материнства была против Авилова. Он вспыхнул, но тотчас же сдержался.
– Послушай, Натаха, – начал он снова. – Я дам за нее вено[8] табаком и деньгами.
И слово, и обычай были одинаково известны на дикой Колыме, но старая Натаха разозлилась.
– Ребенка не выкупишь веном, – прошипела она, – хоть всем твоим потрохом… Ступай-ка отсюда… Ступай, ступай!..
Любовная связь дочери ее не смущала, а радовала. Но отдать этому чужому чуженину возможного внука, паек!.. Она готова была выцарапать ему глаза…
Выскочили Липка и Чичирка и маленькая Зуйка и подняли гневное шипенье, словно сердитые гусыни на чужую собаку. Черная головка Дуки, повязанная красным, выглянула тоже из двери.
– Ступай-ка и вправду отсюда… Тебе здесь не место…
V
Зима выпала такая холодная и скудная, какой старики не запомнят. Промысел осенний рано оборвался, а подледный не удался. Напрасно мужчины долбили пешнями (ломами) трехаршинную толщу матерого льда на реке, просовывая сеть внизу на длинном «нориле», трехсаженном шесте толщиной в человеческую руку. В сети попался только круглоротый чукачан, костлявый и тощий, которым брезгуют даже упряжные собаки.
Потом и чукачана не стало. В наступившую весну голод явился зловещей грозой, сулившей погибель и людям, и лающей «скотинке».
Больше полгода прожили Викентий и Дука в разных домах, услаждая свои встречи урывчатой и яростной любовью, но словно в отместку Натахе Щербатых о внуке не было речи. Дука бегала, как прежде, тоненькая, стройная, перекатывалась всюду, как ртуть, летала и вправо, и влево, словно любовь зажгла ее новым огнем, напитала особым беспокойством. И в месяце апреле, когда Щербатые Девки доедали последние «кости и головы» (рыбьи), Дука встала на легкие лыжи, повесила лук через плечо, а под мышки – пищаль и отправилась, как прежде, на белые Павдинские горы. Викентий Авилов шел рядом с ней. Лыжи его были как два плота, и мягкий снег с каким-то испуганным вздохом садился под его тяжестью, но он шел вперед, как большая машина, и даже обгонял на ходу легконогую Дуку.
Первые пять верст они прошли в совершенном молчании. Потом Дука сняла ружье и отдала его спутнику.
– Мне лук лучше, – оказала она в объяснение, – а с пустыми руками идти на охоту – плохая примета.
Они двигались быстро, словно поедали версту за верстой своими широкими жадными лыжами. Начались Павдинские горы, поросшие лиственным лесом, потом за перевалом явилась и хвойная чаща, но не было нигде ни лосиного следа, ни заячьих «крестов», ни куропаточьей «вязки» на рыхлом снегу. Лес словно вымер. Там не было «ни червя, ни былинки», как это описано в старой тундренной сказке.
Они спустились с Павдинского вала на озеро Лисье и покатились по ровному льду, с берега на берег. Вперед, все вперед, пока не найдется добыча или смерть…
Озеро лежало, как белая чаша, в широкой котловине, и на севере синели Жабьи холмы, поросшие кедровой сланкой.
– Здесь есть еда! – неожиданно сказала Ружейная Дука и слегка постучала лыжным посохом по льду, покрытому снежным «убоем», гладким и твердым, как мрамор.
– Рыба! – прибавила она в виде ответа на удивленный взгляд спутника. – Как полный амбар.
– Так будем ловить, – горячо отозвался Викентий. У них не было сетей, но за сетьми можно было вернуться в поселок, и, кроме того, северные рыболовы ухитряются ловить рыбу даже без всяких сетей.
Дука покачала головой.
– Нельзя, – сказала она с невольным вздохом. – Дедушко не любит. – Полное озеро рыбы, – начала она снова, как будто против воли.
– Дедушко не любит, – повторил с удивлением Авилов. – Какой дедушко?..
– Дед, водяной, – негромко объяснила спутница, – не любит, не дает… А ежели даст, – прибавила Дука нерешительно, – так требует плату, чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека…
Это была старинная русская сказка, рожденная древней природой, озерами и реками России и вновь воплощенная в озера и реки этого дикого края. Древний водяной царь из Ильменя или Селигера переселился в озеро Лисье и с каждого гостя и путника требовал выкуп, «чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека»…
Самое милое на севере, как и на юге, – новорожденные дети, и выкуп водяному приходилось платить маленькими русыми головками. Может быть, именно поэтому так мерли ребятишки на заимке Веселой. Жители боялись водяного, живущего в дальней пустыне, и в самое голодное время не ловили на озере Лисьем. И оттого оно было переполнено рыбой, как подводный амбар.
Однако Викентий Авилов был меньше всего склонен поддаваться таким опасениям.
– Вот еще! – фыркнул он презрительно. – Мы будем голодные ходить. Ну его к черту!
– Грех! – быстро сказала Ружейная Дука. – Солнце услышит…
Солнце, и горы, и вода были связаны одной неразрывной связью. И словно в подтверждение угрозы в воздухе стало темнее. Небо закрылось туманом и словно осело на землю. Какие-то сизые клочья быстро всползали к зениту. Пахнул хиус[9] с юго-запада, с «гнилого угла», сырой и коварный предвестник весенней метели, залепленной снегом.
– Худо, – сказала Ружейная Дука, – на озере беда. Перебежим до берега.
Но берега уже исчезли, заволоченные снежной дымкой. Ветер заревел. Воздух завился мокрыми струями расплавленного снега, словно озеро прорвало ледяную кору и взметнулось в пространство.
Они шли вперед, полуослепленные, укрывая лицо от колючего белого ада, и невольно сбивались по ветру, левее, левее к востоку, шли, сами не зная куда, вперед или назад.
– Дука! – позвал Викентий задыхающимся голосом. Она уходила от него в снежное море, как призрак, и оно готово было поглотить ее и скрыть навеки.
– Я тут, – ответила Дука. Она была действительно тут, совсем близко. – Свяжемся, – предложила она, разматывая пояс.
В такие метели путники связываются рука с рукой, чтобы не растерять друг друга.
– Постой-ка! – сказал неожиданно Викентий, нагибаясь к земле. – Следы… Вышли на дорогу…
Сквозь белые потоки мелькнули на снежном «убое» словно следы от полозьев, переметенные острыми грядками сыпучего снега. Дука только махнула рукой.
– Какая дорога!.. Наши собственные лыжницы… Мы закружали…
Уклоняясь от бешеного ветра, они описали полный круг и вышли на собственный след. На открытых местах в пургу «кружают» не только люди, но даже степные лошади и дикие олени.
– Пойдем, – сказала решительно Дука. – Я поведу тебя.
Она подошла и обвязала ему локоть концом пояса, другой конец замотала себе за рукав и пустилась вперед, низко надвинув олений кокуль[10] на лицо и опираясь на посох. Они шли гуськом, как ходят связанные в бурю. Теперь ветер дул им прямо в спину, и они старались не уклоняться в сторону. Лишь бы идти прямо, куда-нибудь непременно выйдешь. Час или два они ломали лыжами переметенный «убой», подвигались медленно и трудно, как будто и ноги их были, как руки, связаны.
– Берег! – крикнула неожиданно Дука, поворачивая голову и стараясь перекричать метель.
– Вижу! – ответил Викентий.
В тумане мелькнули холмы, словно сгущенные тучи, чуть отделенные от общего хаоса.
– Ах!
Викентий Авилов двинул обеими лыжами сразу и вдруг ощутил, что лед его больше не держит.
– Берегись! – крикнула Дука, отбегая назад, но было уже поздно. Твердый «убой» разлезся под ногами Викентия, как рыхлая корка, и он провалился по пояс в холодную жгучую воду.
То была «наледь». Горная речка, промерзнув до самого дна, гнала набегающую воду поверх льда, и эта живая струя из лощины выбегала на грудь озера, скопляясь глубокой лужей, проедая внизу матерый лед, а сверху покрываясь новою тонкой корой. Такие наледи часто встречаются на горных потоках, особенно весною.
Викентий и Дука действительно добрались до берега, но, прежде чем выйти на землю, провалились в полярную зажору.
– Держись! – крикнула Дука. Она успела отбежать на закраину твердого льда.
Выгибая свой стан и напрягая руки, она потянула за пояс. Викентий выполз из зажоры, как огромная нерпа, и поволокся на брюхе к безопасной закраине. Потом сбросил с ног обломки лыж и с усилием встал на ноги. Его меховая одежда была напитана водой и облеплена снегом, и он походил на рыхлый ком, какой ребятишки катают, чтобы вылепить бабу.
– Скорее! – торопила Дука. – Обмерзнешь!..
Она шла вперед, волоча за собою измокшего спутника. Викентий тащился через силу. Платье его леденело, особенно снизу, а ноги местами горели, а местами стали нечувствительны и тверды, как дерево.
Снег становился все мягче и глубже. Они подошли к нависшему обрыву скалистого берега, где было углубление вроде небольшой пещеры. Оно было набито снегом сверху донизу. Викентий повалился на снег, но Дука сбросила лыжи и стала раскапывать лыжной доскою сугроб. Углубление очистилось, и снежный вал вырос впереди, давая защиту от ветра.
– Иди сюда! – позвала она спутника.
Викентий кое-как переполз в убежище. Тело его, покрытое коркою мокрого льда, не повиновалось ему больше.
– Дай я тебя раздену, – сказала Дука.
Она стащила с него мохнатую обувь и меховые чулки, потом сбросила с себя свою верхнюю «парку» и завернула его холодные голые ноги в сухой мех. Она выжимала его мокрые оленьи шаровары, как выжимают белье, выдавливала из них воду тупой стороной ножа, натирала их снегом, стараясь извлечь по возможности влагу и вернуть сухость, дающую тепло. Снежная стена вырастала. Вьюга наметала на нее широкой белой метлой новые и новые горы. Наконец сугроб перегнулся и осыпался на выступ скалы. Отверстие закрылось. Они были в плену, в тесной ячейке, как личинки в древесной трухе. Стало темнее и теплее. Буря как будто оборвалась. Странным контрастом легла тишина после разнузданного воя, оглушавшего их еще за минуту. Теперь доходило снаружи как будто жужжание пчел. То были белые пчелы метели, которые визжали снаружи, как медные сирены, и жалили, как змеи. Но сквозь снежный окоп голос их казался ласковым и нежным.
Викентий закрыл глаза и впал в забытье. Дука быстро повернула своими маленькими крепкими руками его неуклюжее тело, раздела его донага. Белая кожа Викентия слегка розовела под лаской ее пальцев, но на бедрах и около лодыжек отстали помертвевшие клочья, как ветхая бумага, и под ними алело кровавое мясо, как будто натертое соком брусники, которой весельчанские девицы натирают осенней порою свои смуглые щеки. Дука сняла осторожно истлевшую кожу и завернула Викентия в обе широкие парки. Потом подостлала наружную парку из серой парусины, села на землю спиною к скале и голову друга положила к себе на колени.

