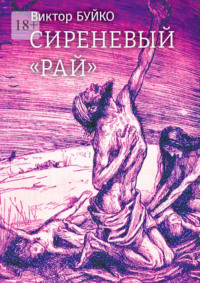
Сиреневый «Рай»
– Нет, господин офицер. Вот, ногу подвернул… – и тростью показал на ступню.
Каратель вдруг резко размахнулся и сильно ударил его в лицо. Лейба выронил трость, упал на спину и закрыл нос руками. Оттуда струйкой закапала бурая кровь.
– Тафай жит-т-товское сол-л-лото! – наклоняясь над ним и свирепея, орал офицер.
Захлёбываясь и булькая кровью, Лейба прохрипел:
– Я простой человек!
Но вид ползавшего по земле упрямого старика ещё больше разозлил карателя. Он махнул рукой, и к нему подскочили два мотоциклиста с автоматами. Они ещё раньше остановились и наблюдали за тем, что происходило на мосту. Пока Лейба стоял на ногах, а офицер сам разбирался с несчастным пленником, они неторопливо разговаривали в сторонке и, опершись об ограждение, курили папиросы. Гортанная команда заставила их быстро подбежать. Каратель что-то сказал, и они подняли с земли Лейбу. Тот стоять уже не мог и повис на их руках.
– Кде-е жит-т-тоф-ское со-ло-то? – по слогам прорычал его мучитель и навис сверху коршуном. Старик проглотил кровавый комок и только беспомощно помотал головой. Каратель взял у мотоциклиста ещё недокуренную папиросу и прижал её ко лбу Лейбы. Тот тонко закричал и обмяк. Палач достал из кармана зажигалку, не спеша отвинтил крышку и вылил бензин на бороду своей жертвы, потом щёлкнул коромыслом, и борода загорелась, как маленький живой факел. Лейба извивался и жалко кричал, а мотоциклисты тем временем по команде вытряхнули его из пиджака, сорвали рубашку, штаны, а потом несколько раз потрясли их и ощупали. Ничего не найдя, они выбросили всё с моста в речку и некоторое время смотрели, как, развеваясь на ветру, падали в воду лохмотья.
Нагой старенький Лейба лежал уже, не двигаясь. Борода его догорела, и в сыром воздухе витал запах жжёного. Каратель сплюнул, повернулся и пошёл прочь, на ходу что-то небрежно скомандовав. И тогда солдаты начали топтать замученного старика грязными, перепачканными в глине огромными сапогами, бить его каблуками в голову и живот. Ему уже было всё равно – он умер… Тогда эсэсовцы подняли лёгкое тело за руки-за ноги и перекинули его через ограждение с моста.
Всплеск. И вдогонку ему для верности, а может быть, просто пострелять захотелось, они выпустили две короткие автоматные очереди, потом перекинули автоматы за спину и, что-то обсуждая и смеясь, вернулись к поджидавшему их мотоциклу и поехали догонять ушедшую не очень далеко колонну. На мосту осталась одиноко лежать деревянная трость.
Расслышавшая треск автоматной очереди Марьяся, сама не понимая отчего, вздрогнула всем телом, ссутулилась, жалко оглянулась назад, ища полными от слёз глазами знакомый силуэт, но ничего не найдя, пошла, спотыкаясь. Силы совсем оставили её…
Быль 5.
Дача рядом с «Адом»
Колонна отошла еле-еле, наверно, на километр. Понурые, в основном пожилые люди, много женщин с младенцами, которых приходилось нести на руках, шли очень медленно. Сколько их было в той колонне? Считать никто и не пытался, списки были у полицаев. Притихший город провожал их молчаливо. Вдоль дороги никого не было видно, лишь изредка колыхалась в испуге занавеска на окне очередного дома на обочине, и снова вокруг только шарканье ног да крики воронья.
Сбоку от колонны следовали полицаи из местных. Они весело перекликались друг с другом, часто подбегали прикурить или просто позубоскалить. Оружие болталось у них за спинами бесполезно и бессмысленно. Кто побежит? Кому и куда бежать-то? Молодых всего несколько человек, да и те бредут как угорелые. Кто в мамку вцепился, кто деда волочит… Может, были бы их отцы да старшие братья, так и надо было б смотреть: ну а вдруг выкинут коленце? А так, гогочи себе да семечки лузгай.
Из толпы выделялось несколько человек, которые суетились вдоль колонны. Иногда они подобострастно подбегали к полицаям или жандармам, что-то, наклоняясь, говорили и часто шептали на ухо, а потом опять семенили вдоль и рядом с колонной, не смешиваясь с ней. На рукавах у них были не белые, а жёлтые повязки, отличавшие их от остальных.
– Юденрат… – шептались о них люди и втайне указывали пальцами. Это было назначенное немцами местное самоуправление «активистов» из общины, которые ничем, по сути, не отличались от остальных предателей разных мастей. Заискивая и угождая немцам и полицаям, они считали, что этим можно купить себе жизнь. Нет, ошибались!
– Марьяся, Марьяся! Ты, пожалуйста, не отставай! Не задерживай ты уж общее движение! – часто подскакивал к оглушённой женщине один из юденратовцев. – Лучше разве будет, если нас всех с окриками, как барашков, погонят?
Она хмуро посмотрела, словно сквозь него, ничего не отвечая, отвернулась и снова побрела, едва волоча ноги.
Сзади отозвалось сразу несколько голосов:
– Вот, гад, опять перед ними выслуживается! Угодить хочет!
– Гад он и есть гад, таким родился…
– Немцы в своём репертуаре – порядок даже здесь навели! Где они этот юденрат и этих откопали?
– С общиной поработали, всех активистов по очереди вызывали. Предлагали, но не все согласились!
Тут снова подскочил суетливый и зашипел гадюкой:
– Вы, пожалуйста, не подводите всю колонну и меня не подводите! Господа просили идти в полной тишине, без разговоров. Если что-то нужно, я передам по цепочке.
– Они тебе уже и господами стали. Не быстро ли? – послышался голос сзади и тут же затих.
Гад закрутил головой, как сорока, и попытался определить, кто же это сказал, но а люди, словно нечаянно, заслонили его, и понять это было уже невозможно. Все шли и молчали.
Внезапно впереди послышался какой-то шум. Один из полицаев закричал:
– Погодь, братцы! Мой участок! Я тут гниду одну с гнидёнышами прихвачу, вчера сховались…
Он побежал к ближайшему дому у дороги, на ходу вскинув карабин.
Колонна остановилась. Через несколько минут он уже появился в калитке с сопротивлявшейся черноволосой женщиной. За полы её пальто цеплялись две маленькие девочки. Они кричали и плакали, а женщина их успокаивала. Полицай одной рукой тащил её, а другой пытался прикладом отогнать преследовавшего их здорового мужика с растрепавшимися русыми прядями волос:
– Уйди ты, уйди, чёрт! Мне велено жидов!!! Отвяжись! Сядь себе на печку и сиди там смирно!
– Мои они, мои! Меня тогда бери тоже! – пытаясь дотянуться до дочерей, цеплялся тот.
– Отстань ты по-хорошему! Дома сиди, сказал! Их мне только велено!
– Бога побойся! Крошки ж ещё!
– Мне сейчас не до него. Отстань, отпусти, бугай!
Тут мужик увернулся, схватил черноволосую, потянул к себе, и их ноги облепили дочери. Девочки истошно кричали и плакали, и разнять этот живой клубок было невозможно. Тогда полицай отскочил на два шага, вскинул карабин и выстрелил прямо в широченную спину мужика. Пуля распорола рубаху, и оттуда брызнула алая кровь. Капли её попали на руки дочерей, отчего те завизжали и отпустили отца. А он медленно начал заваливаться набок и громко, с воем хрипеть. Вокруг воцарилась тишина, только хрипел на земле умирающий мужик, а черноволосая, чтобы не видели дочери, уткнула их тёмные головки в свой подол и закрыла их уши растопыренными мечущимися ладонями.
Полицай, словно ничего и не произошло, рванул их за шиворот пальтишек, оторвал от матери и сильно толкнул к колонне. Затем прокричал подбежавшим товарищам и одному юденратовцу задорно и весело:
– Принимай пополнение, Палестина!
Все загоготали, и только человек с жёлтой повязкой подошёл к притихшим испуганным несчастным девочкам, погладил их по чёрненьким головкам и ласково сказал:
– Идёмте, идёмте, маленькие! Нас там много, там детки тоже есть, там вам будет хорошо. Поспешайте, девочки! А то господа немцы будут нами недовольны!
Он аккуратно, за руку повёл девочек в обречённую колонну. Следом, не оглядываясь на безжизненное тело мужа, за детьми безвольно плелась женщина. Колонна снова тронулась. Когда её голова поравнялась с Горбатым мостом, неожиданно дали приказ остановиться. Люди в нерешительности толпились на месте, не понимая причин внезапной остановки. Это усугубилось тем, что вдоль строя опять быстро забегали полицаи, сверяя какие-то списки и выкрикивая имена. Им вторили юденратовцы:
– Выходим, выходим, граждане! Не задерживаем передвижение колонны, пожалуйста, помогите выйти тем, кого называют. Вы же видите – им трудно идти.
Послышались слабые ответы, на которые, как коршуны, устремлялись холуи и вытаскивали по одному человеку. В основном это были люди самого преклонного возраста, больные и слабые. Некоторые покорно выходили из строя, а иногда над колонной повисала гнетущая пауза. Тогда внутрь устремлялись юденратовцы, находили беднягу и, бережно взяв под руку, выводили его из строя.
– Зачем молчать? Ведь есть порядок… Перекличка есть перекличка. Значит, нужно ответить.
Так поодаль и образовалась какая-то особая группа. Не все могли легко отпустить родных из колонны. Куда и зачем сейчас вдруг вызывают их эти люди? Многие крепко держали и не хотели расставаться с близкими. Молодая женщина с грудным ребёнком на руках, услышав имя отца, крепко вцепилась в рукав его пальто.
– Не пущу! Не ходи туда, не надо! – горько плакала она, обхватив его руками. Стоявший рядом юденратовец начал ей тут же нашёптывать:
– Не нужно им перечить, отпустите вашего папу! Формируется группа ослабленных людей, им будут даны подводы. Вы же понимаете, как им трудно идти…
Он тут же силой попытался разжать её руки, но женщина, напротив, сжала их ещё крепче.
Издалека к ним уже спешил на шум здоровенный немец с большой металлической бляхой на груди и с автоматом. Огромная железяка болталась на цепях из стороны в сторону, отчего его облик казался ещё более зловещим.
– Жандарм! – пронеслось по рядам.
Он подскочил и, видя упорство женщины, резко ударил её могучим кулаком в грудь. Та пошатнулась, схватилась за бетонное ограждение моста, но поскользнулась и упала спиной в грязь, прижимая к себе младенца. Немец тут же воспользовался её беспомощностью, выхватил из рук исходящего на крик малыша, сорвал с него одеяла и пелёнки, а потом, углядев внутри розовую ножку, с перекошенным от злобы лицом схватился за неё и с размаху ударил об ограждение моста. Ребёнок как-то хрустнул, замолк и сразу обмяк, а жандарм брезгливо бросил его с моста вниз и пихнул пожилого мужчину, из-за которого возникла эта дикая сцена. Молодая женщина оттолкнула тиранов и с разбегу бросилась с моста за своим чадом. Вдогонку ей прозвучала очередь, послышался истошный крик, а колонна тем временем уже двинулась вперёд.
Когда отобранные старики и больные остались одни, несколько жандармов с автоматами построили их и повели в сторону под мост. Скоро там послышались автоматные очереди. В ответ вся колонна откликнулась горестными вскриками и рыданиями. Но было поздно и совершенно непонятно, за что казнили этих несчастных. Возможно, и вовсе без причины, просто таков был жестокий приказ, или там, куда они направлялись, для всех не хватало места, и каратели избавлялись от лишних прямо по пути…
Юденратовцы ещё громче закричали просительно:
– Поплотнее, пожалуйста, поплотнее! Осталось уже совсем немного! Скоро уже придём! Плотнее!
По правую руку вскоре открылась большая двухэтажная постройка голубого цвета. Марьяся и Хая отлично знали это место. Оно называлось Голубая Дача, раньше они ходили сюда погулять, потому что вокруг был старый живописный парк, приятное место, любимая зона отдыха горожан. Само здание давным-давно, ещё до революции, принадлежало местному исправнику, и когда-то было действительно его дачей. Потом оно перешло к государству, и некоторое время сдавалось как гостиница желающим, а последнее время и вовсе было заброшено.
Сюда и повернула основная часть колонны. Остальных направили по другую сторону дороги в заблаговременно освобождённые немцами от местных жителей дома. Всё вокруг было обтянуто колючей проволокой и больше напоминало тюрьму. Гетто! По помещениям людей разводили юденратовцы. Заняв лучшие комнаты для себя, они наталкивали в маленькие живопырки по несколько десятков человек. При этом в здании не было вообще никаких условий быта. Надвигалась осень, но несчастные люди спали на полу, жили впроголодь и быстро поняли, что дальше будет только хуже.
Марьяся после потери мужа сильно изменилась. Она ушла в себя и внешне ничем не проявляла горя. Но внутри у неё всё сжалось и болело. Только стала молчаливой и подолгу смотрела через окно Голубой Дачи невидящим воспалённым взглядом во двор. Ей всё время вспоминались слова несчастного Лейбы.
«Давай уедем?». Так он мне сказал тогда? И что на это ответила я? А невестка, Хася, ведь она не оставила мне детей! Увезла их. Господи, а я так молила её не брать внуков в эвакуацию! Что бы я наделала – сейчас все они были бы здесь?!» – горестно размышляла Марьяся.
Первое время, пока ещё разрешали, она иногда выходила в город, выменивая в соседних домах еду на вещи. Но охрана скоро запретила покидать территорию Дачи. Наступил голод, и оставалось лишь ждать развязки. Вскоре она наступила…
Было 6 сентября 1941 года.
«Неужели с момента, когда мы сидели всей семьёй в палисаднике под кустами благоухавшей сирени у дома, прошло меньше трёх месяцев?! А кажется – пронеслась вечность!» – думала Марьяся.
В то утро мелкий холодный дождь зарядил, по-видимому, надолго. В бараках сразу же похолодало. Поселившаяся везде сырость пробирала до костей. От неё не спасали ни принесённые из дома теперь уже сырые одеяла, ни прохудившаяся одежда. Внезапно по коридорам забегали полицаи. Они заглядывали в комнаты и кричали одну и ту же фразу:
– Мужчины, молодёжь, пейсатые, стройся! Выходим, выходим: работы, работы! Слабых вперёд! Работы лёгкие! Все идут! Все-е-е-е!
В коридор потянулись из комнат мужчины, юноши и старики. Мужчин было немного, и поэтому ослабевших и больных стариков поддерживали молодые ребята, совсем ещё дети. Команда была выполнена. Потом их всех вывели во двор. Туда же привели под конвоем мужчин из домиков напротив Голубой Дачи. Всего набралось несколько сотен человек – большая и разношёрстная колонна. Двор был полон людьми, но стояла удивительная тишина. Даже полицейские притихли и только иногда подталкивали прикладами в центр колонны ослабевших и больных.
Солнце над Голубой Дачей в то ужасное утро так и не встало. Утренний воздух заполнил мрачный серый туман. Все поёживались и сутулились от утренней прохлады. Наступили тягостное ожидание и особая томительная грусть, когда вот-вот должно было что-то случиться. Потом подъехало несколько армейских грузовиков, распахнулись ворота, и через несколько минут двор опустел. Только из всех окон виднелись огромные воспалённые заплаканные глаза женщин и детей…
К полудню неожиданно и их вдруг начали выгонять из помещений. Пригнали и оставшихся узников из соседних превращённых в гетто домов. Все пугливо озирались, растерянно смотрели по сторонам. За всё время пребывания на Голубой Даче такого не было никогда. Встревоженные люди обменивались взглядами, в них читались страх и неуверенность. Ни полицаев, ни тем более эсэсовцев это никак не смущало.
– Выходим все! Все до одного! Больным помогаем! Освобождаем помещения! – опять оживились они, получив какую-то команду.
Раздавался детский плач, но матери закрывали малюткам рты, чтобы не привлекать к себе внимание, и всё снова стихало. Слышались лишь шарканье сотен подошв по дощатым полам и тяжёлая одышка старух. Многие из них ковыляли, совсем ослабев, опираясь на палки. Отставшая очень слабая старуха еле шла, тяжело припадая на обе ноги. Она, несомненно, была тяжело больна, но лишилась своего провожатого. Вдруг она остановилась, выставив палку вперёд и, прислонившись к ней подбородком, громко, на весь коридор спросила капризным требовательным голосом:
– А где мой муж?
Помутившимся разумом она не понимала, что происходит, и не оценивала грозившей ей сейчас опасности…
– Он мне поможет. Куда вы его дели? – продолжала она бубнить своё.
К ней тут же подскочили два полицая:
– Чего орёшь, старая карга? Иди, догоняй всех! Жить надоело?
Старуха злым воспалённым взглядом посмотрела мимо них. Все люди уже вышли во двор, в коридоре осталась только эта маленькая группа.
– Где он? Он поможет мне выйти. Куда вы дели его? Он всегда помогает – мне трудно идти! – она уже почти кричала на них, и полицаи, остолбенев, даже отступили на пару шагов.
Наконец один, не выдержав этого истеричного крика, молча поднял карабин и сильно ударил прикладом прямо в лицо старухи. Что-то булькнуло там, словно камень упал в жижу, и она тихо, даже не вскрикнув, опрокинулась назад, выпустив палку из рук. Они подошли вплотную вдвоём и несколько раз примкнутыми штыками тихо потыкали в кучу теперь безмолвного тряпья. Потом вытерли об него бурую от крови сталь клинков, сплюнули и, нехорошо ругаясь и топая сапогами, быстро пошли во двор.
Начиналось…
Быль 6.
Любовь в «Аду»
…Когда они с Мишкой вышли на поляну, к Эте сразу бросилось несколько детей. Обхватив её руками и уткнувшись ей в спину, плакала девочка с соседней улицы. Красивая, тонкая, дрожащая. Они и не знали-то, по сути, друг друга, но той было страшно, и Этя обнимала и прижимала к себе содрогавшееся от рыданий хрупкое тело. А девочка всхлипывала, сжималась, распрямлялась, как пружина, и всё сильнее стискивала объятия. Её дрожь передавалась Эте. В правую руку вцепился незнакомый, очень перепуганный маленький мальчик. Всего-навсего, года четыре. Его кучерявая чёрненькая головка пряталась под её мокрую кофту. Малышу хотелось сейчас скрыться куда-то, где хоть немного было спокойней и теплей.
Но, не дав постоять и минуты, полицаи вырвали у неё детей. Они схватили их, силой подтащили к краю ямы и сбросили туда. Эсесовец вслед послал несколько выстрелов и оглянулся…
Это, наверно, сон. Страшный, дурной сон. Как они очутились на краю этого ада?..
С самого детства Этя смотрела на него по-особенному, вовсе не по-соседски. Так и сложилось. Мишка опекал и оберегал её от всех невзгод. И в играх, и потом в жизни он всегда оказывался рядом. А она, немного повзрослев, краснея от своих мыслей, думала: «Какой же он хороший! Совсем родная душа, лучший друг. Он мой! Только мой!». И что бы ни говорили вокруг, ей было всё равно: «Ну и пусть, что старше – что ж тут такого? Не жениться ведь! А нам всего-то нужно – просто быть рядом. Долго-долго, до самой смерти…».
Недавно Мишка вдруг изменился. Взрослые говорили, что они с отцом немцам продались… Но ни слушать этого, ни верить в это Этя не хотела. Да-а-а, теперь он выглядел по-особенному в этой новой форме. Она шла ему, делала ещё стройней и красивей. А ещё Мишка сказал, что он на их улице порядок будет наводить, чтобы теперь всё стало по справедливости и все были равны, чтобы не было богатых. Значит, так и будет – ведь он ей никогда не врал!
Когда их вывели из Щетинной фабрики, он ни на минуту не оставлял её. Так и шёл рядом, изредка поправляя тяжёлый карабин. Говорить им было нельзя – неподалеку был эсесовец, злой, как цепная собака, всё время крутивший головой и готовый сорваться на любого. Про себя Этя за длинный нос крючком прозвала его «Ворон». Ни к кому он не обращался, лишь иногда гортанно, коверкая слова, кричал полицейским. Вот и сейчас, резко повернувшись к Мише, он зло прокаркал на ломаном русском:
– Блис-с-ско жидоф-ф нэлзя ит-ти! Глядет-ть порядок тебе нат-та!
Он, кажется, заметил, как Этя, чтобы быть поближе к Михаилу, поменялась с матерью местами и встала с края колонны. Теперь фриц всё время зорко поглядывал на неё. А Мишка только легонько скашивал глаза и, когда тот отворачивался, незаметно кивал и подмигивал ей. И тогда словно горячим кипятком окатывало Этю от этого взгляда! Как же хорошо, что под холодным дождём может становиться жарко от лучика света, исходившего из глубины его карих глаз! Он шёл с гордо поднятой головой, и его красивый профиль с вздёрнутым к небу носом, пушком над верхней губой, нахмуренными бровями на фоне серого неба был таким мужественным и в то же время таким нежным!
Неожиданно по команде колонна свернула с дороги, и каратели быстро забегали, заторопили всех.
– Останоф-фка! Кроткий останоф-фка! – кричали они полицейским, и те устремились по рядам, отодвигая женщин и детей к рощице рядом.
Непонятно почему, словно в предчувствии, что вот-вот что-то случится, женщины нервно засуетились, крепче прижали к себе детишек и стали укутывать их в промокшую до нитки одежду. Дождик уже проник всюду, и спастись от сырости было совершенно некуда, а они всё кутали и кутали их. Наконец наступила напряжённая тишина, все остановились и стали ждать. Люди замерли, не понимая, что будет дальше.
Офицеры неподалёку деловито собрались в круг. Всего несколько десятков метров отделяло их от женщин и детей, но говорили они по-своему, да и слов было не разобрать. В центре круга стоял высокий худой немец в кожаном плаще, блестевшем от дождя. Он то и дело указывал рукой в перчатке в сторону от дороги и крутил головой, оглядываясь то ли на стоявших сзади офицеров, то ли на встревоженных женщин. Эсэсовцы, скрестив руки за спиной, качались с пятки на носок и послушно кивали:
– Та-та! Яволь-яволь!
Женщины тоже начали что-то высматривать там, куда он указывал. Они всё же надеялись, что вот-вот оттуда должны появиться их мужчины, отправившиеся в путь под конвоем с раннего утра. Но лес за косогором молчал и казался вовсе безжизненным.
Пока каратели совещались, колонна осталась с полицейскими. Теперь Михаил и Этя смогли приблизиться друг к другу. Он протянул руку и словно нечаянно, поправляя ремень карабина, коснулся её плеча. Этя вспыхнула, и опять та же горячая волна окатила девушку с головы до ног. А он, навстречу её искрящемуся взгляду, улыбнулся широкой белозубой улыбкой. И вот снова солнце выглянуло из-за туч, и чудом прекратился этот холодный дождь, и унялась противная дрожь.
– Сильно зябко? – прошептал он, отводя в сторону губы, чтобы звук не доходил до немцев.
– Нет! А тебе? – прошептала Этя, но Хая тронула её за локоть и укоризненно тихо сказала, покачав головой:
– Доченька!
Было ясно, что мать права, но тёплый взгляд Мишки так приятно согревал, что Этя была не в силах от него оторваться.
Наконец офицеры, козырнув старшему, быстрым шагом направились по своим местам. Ворон, подойдя к ним поближе, тут же собрал полицейских в круг поодаль. Пошёл туда и Михаил, при этом незаметно из-за спины помахал рукой Эте. Она только улыбнулась одними глазами. Начался инструктаж теперь уже полицейских. Все опять напряглись, и оказалось, что не зря.
До колонны доносились обрывки коротких рубленых фраз Ворона:
– Профилактик… Отдельно… Жидоф-фки налево… Жидят-та направо…
Напряжение нарастало. Он продолжал что-то втолковывать полицаям, тыкал длинными пальцами в некоторых, махал руками – сущий чёрный ворон! На это полицейские крутили головами и молча, исподлобья переглядывались между собой.
На мгновение взгляды Миши и Эти встретились. В эту секунду его глаза показались ей огромными и испуганными, глубокими, как бездна. Было ясно – они кричали, словно хотели предупредить её о чём-то, что-то ей сказать. Но сразу на него зло закаркал Ворон, и Михаил тут же опустил глаза, отвернулся и мотнул головой, словно желая избавиться от наваждения.
Видимо, его кричащий жест перехватил эсесовец, но тогда вида не подал, а продолжил инструктаж. Вскоре круг полицейских распался, и Этя начала глазами искать Мишу и нашла его, но с удивлением вдруг поняла: за эти несколько минут с ним что-то произошло. Он не просто изменился – он стал совсем иным. Повернувшись, Миша шёл сейчас не к ней, а, словно пьяный, рассеянно брёл совершенно в другую сторону. Тут же, заметив это, его догнал Ворон, сильно дёрнул за ремень карабина, и издалека было слышно, как он прокричал в исступлении:
– Сфоё-ё мэст-то иди! Туда-туда! – и точно указал пальцем на Этю, остолбеневшую от неожиданности и предчувствий. Миша обречённо и покорно, не поднимая головы, отводя в сторону глаза, медленно повернулся и пошёл, куда требовал каратель.
В это время в разных частях колонны послышались истошные крики. И сразу всем стало ясно – кричат маленькие дети и страшно голосят женщины. Офицеры опять забегали вдоль колонны, громко командуя полицаями. И те по их приказанию быстро растворились в гуще колонны. Они зыркали глазами, высматривая детей, и пытались оторвать их от обезумевших матерей. Матери же, сжимавшие и заслонявшие своих кровиночек, были перепуганы насмерть. Полицаи с силой тянули крошек на себя, и матери, повинуясь вековому инстинкту, были не в состоянии причинить боль чадам. Они заворожённо разжимали объятия, отпускали цеплявшиеся за них руки, скользили по ним, но не могли, не хотели рвать дитя на части.
А детишки наоборот, как зверятки, визжали, колотили полицаев ногами, царапались, но всё же уступали силе и безвольно повисали на их руках.

