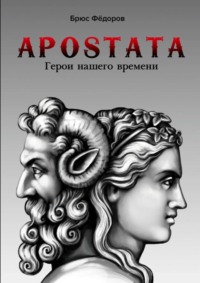
APOSTATA. Герои нашего времени
– Игемон, кому вы молитесь, к кому вы взываете? Отчего вы в таком отчаянии? – наконец произнёс он.
Всё успокоилось в зале. Стулья, комоды и диваны прекратили вращаться по своим орбитам и расставились по своим местам; погасли и исчезли светильники; словно дым из кальяна, растворились в воздухе предметы воинского снаряжения. За портьерами никто не шевелился и не издавал пугающие звуки. Теперь это была уже не утопающая в неземной роскоши опочивальня восточного владыки, а обыкновенная комната со старыми обоями, кое-где оборванными и свисающими по стенам безобразными лоскутами, скрипучими деревянными стульями и протёртыми и проваленными креслами. От прежней обстановки сохранился, правда, десертный столик из тёмно-красного дерева с резной крышкой, в которую были искусно вмонтированы сверкающие блёстками зразы из серебра и золота. На столе стояли чашки с полупрозрачными фарфоровыми блюдцами, блюдо с фруктами, простой стеклянный кувшин, возможно с вином или с фруктовым соком, да пузатый керамический чайник, который медленно подогревался на спиртовой горелке.
Маленький человек в сером костюме поднялся с пола, выпрямился и вновь водрузил на свой хрящеватый нос роговую оправу очков. Садиться в кресло или на стул он явно не спешил, а принялся мелкими шажками мерить сжавшуюся до прежних размеров комнату из конца в конец и лишь иногда искоса посматривал на Максима.
Чтобы преодолеть возникшую неловкость, Берестов повторил свой вопрос:
– Извините мою настойчивость, игемон. Я понимаю, что выгляжу более чем странно со своим неуместным любопытством, но я ведь только хотел…
– Оставьте свои объяснения, господин Берестов, – прервал его спутанную речь римский прокуратор. – Как раз всё уместно. Более того, я ждал этого разговора. Думаете, у меня много выпадало возможностей, чтобы вот так, по-простому, душевно поговорить с другим человеком за эти проклятые две тысячи лет? И вот что, пожалуйста, не зовите меня более игемоном. Это всё в прошлом. Лучше Пилат или Понтий. Для меня это имя привычней. Так вот, я обращался к Нему, к Тому, которого однажды, подчиняясь очарованию власти, обрёк на мучительную смерть. Может быть, против своей воли, но ведь сделал это. В угоду обстоятельствам. Я говорю о Нём, о нашем Спасителе.
Пилат предупреждающе поднял руку, чтобы предостеречь писателя от следующего вопроса. Теперь он прекратил своё хождение и стоял напротив Максима, метрах в двух от него, и смотрел сверху вниз.
– По своему чиновничьему недомыслию я уничтожил сокровищницу духа, раскрывшуюся перед нами, живущими на земле. – Пилат ладонью протёр вспотевший лоб. – Вы не знаете, что такое оказаться в чертогах римского бога Оркуса, владыки подземного мира, и, я надеюсь, никогда не узнаете. О, это удовольствие не для слабых. Не знать ни времени, ни надежды, пребывать без слова и мысли, не ведать собственного тела, не осязать и не чувствовать. Не видеть близких и даже прежних своих врагов. Никого. Всё стёрто перед вашим взором, которого тоже нет. И лишь питаться прахом самых скверных и проклятых Богом и людьми грешников, пересыпая его туда, где некогда было ваше горло, под непрекращающийся харкающий смех северного бога-пересмешника Махаха. В проклятое место попадают все: цари и воеводы, обладатели несметных сокровищ и бессребреники, добрые и злые. Потому как на всех лежит грех, если не по делам, то по словам и мыслям их. Все должны соприкоснуться с тем, чему и названия нет. Бездна притягивает, сложно удержаться на её краю… А потом, много позже чем потом, возник свет, и я пошёл за Ним, и вышел из обители ужаса и забвения. И это был Он, тот, которого я судил на ступенях своего дворца. О, Он предстал передо мной как луговая роса, увлажнившая потрескавшиеся губы пустынника, как крепкая рука поводыря, ведущая за собой ослепших и беспомощных.
Рука Пилата поднялась, сомкнутые пальцы коснулись лба, а потом безвольно опустились. Он так и не решился завершить крестное знамение.
– Так это был Он – Иисус по прозванию Христос? – в волнении воскликнул Берестов и тоже поднялся на ноги из своего кресла, на которое давно переместился с необъятного дивана.
– Да, это был Спаситель, Тот, ради которого я готов был бы перевернуть куб галактики, если б смог, или заставил бы всевышнего змея Эля поменять местами планеты, развешанные на его кольцах, если бы тоже смог. Но нет. Не дано мне это, да и не принял бы Он такие поступки.
Постойте. Я вижу, мой дорогой гость, что вы хотите, чтобы я вслед за несчастным Тересием открыл смертному правду о мире богов и поплатился бы за это лишением способности понимать язык птиц и животных и видеть будущее. Хорошо, пусть будет так. Я пойду на этот риск. Я не могу отказать человеку, за которого меня попросил сам Мастер, давший мне возможность существовать и переживать прежние страсти на страницах своей книги.
Когда я вырвался к свету, я стал искать повсюду ответ или хотя бы подсказку, что я должен совершить, чтобы воссоединиться с Ним и пребывать в царствии Его. Я молился между лапами вечного Сфинкса во все дни солнечного равностояния; я таскал камни к подножию храма Кетцалькоатля в Мексике при его строительстве. Пересекал без воды пустыни, следуя за караванами бедуинов; скитался в одиночестве в утлом челне по бескрайнему солёному океану. Спрашивал небо и протягивал руки к звёздам. Никто и нигде мне не смог дать ответа.
Как желал бы я оказаться на месте хотя бы праведного зароастрийца, которого у врат рая встретила высокая прекрасная дева, и душа которого спросила её: «Кто ты, девушка, прекраснейшая из виденных мною женщин?» – «Муж благих мыслей, слов и дел, – ответила она, – я твоя благая вера, твоё собственное исповедание. Ты был всеми любим за твоё величие, доброту и красоту, за победную силу, ибо и ты меня любил за моё величие, мою благость и красоту». С этими словами вера повела душу в место обитания блаженных. Известно ведь, что «первый шаг приводит душу к добрым мыслям, второй – к добрым словам, третий – к добрым делам, и через эти три преддверия рая душа достигает рая и входит в вечный свет (Яшт, 22)».
– Но нет, не суждена мне была такая участь. – Бывший римский всадник, явно измученный своими откровениями, устало опустился на скрипнувший под его телом стул и положил поверх стола руки. – При жизни мне уготовано было карать и принуждать. Я грелся в лучах славы, а воля моя была скована нормами римских законов. Неотвратимость наказания и его суровость стали сутью моей деятельности. Приводили ко мне бедную вдову, укравшую хлебную лепёшку для своих голодных детей, – я приговаривал её к бичеванию на площади; базарному воришке палач-ланиус отрубал руку; дорожного грабителя-убийцу забивали бамбуковыми палками до полусмерти, а потом топорик ликтора отрубал ему голову; бунтовщика и смутьяна, подбивающего толпу на оскорбление величия императора и на погромы, приколачивали к кресту и обрекали на позорную смерть от жажды и истощения.
– Я вижу немой вопрос в ваших глазах, а может быть, даже упрёк, – неожиданно прервал свой монолог Пилат и криво усмехнулся. – Другого я не ожидал. – Прокуратор снял пиджак и ослабил узел туго завязанного галстука. Ему стало душно в жарко натопленной комнате, и сами воспоминания жгли его не меньше. Римский наместник наполнил бокал вином и залпом выпил его.
– Совсем нет. Не мне порицать вас. В наше время, в двадцать первом веке, как и прежде, в период варварства и Древнеримской империи, продолжают всё так же грабить, воровать, насиловать, и за эти дела сурово наказывают. Природа преступлений не изменилась, – поспешил успокоить своего хозяина Берестов и наполнил себе и Пилату кубки прохладной кекубой. Ему подумалось, что если он солидарно выступит благодарным виночерпием, то это сгладит возникшее в разговоре напряжение.
– Ну вот видите! – почти радостно воскликнул прокуратор. Глаза его засветились, и правой рукой он начал размашисто рубить воздух, будто надеялся таким образом вколотить в свою речь новые аргументы. – Человеческая порода не изменилась. Оставишь незапертым свой дом – его обворуют, выйдешь один на дорогу – ограбят, а то и жизни лишат. Протянешь человеку руку – он с неё покормится, а потом укусит. И главное, что есть во всех нас, – врождённое стремление к предательству. Человек предаёт всех и вся. Делает это намеренно, если не сказать со страстью. Предаёт своего императора и своих друзей. Предаёт отца и мать и своих детей. Предаёт свои мысли и цели, чувства и обещания. Предаёт самого себя. Разве это не поразительно?
– Вы, наверное, имеете в виду прежде всего Иуду Искариота? Не так ли? – Максим с интересом наблюдал, как от возбуждения и выпитого вина кровь алой волной подступила к щекам наместника Иудеи.
– Именно, – чуть ли не с восторгом воскликнул Пилат. – Конечно, его, незабвенного, патриарха всех предателей, уравнявшего себя с Каином. Хотя… – Прокуратор задумался. До того пронзавшая воздух рука безвольно опустилась вдоль туловища, и собеседник Берестова вернулся на свой скрипучий стул. – Иногда поступок Иуды видится мне в другом свете. Но давайте об этом не будем, по крайней мере сейчас. Повременим… Как меня предупредил Михаил Афанасьевич, вы, господин Берестов, пришли сюда в надежде обрести некое откровение – как и о чём вам писать? Вот вам мой совет: пишите о том, что видите вокруг себя и чувствуете. Люди это поймут и, глядишь, оценят. Вон сколько ежедневных событий. Поверьте – человеку часто хочется смотреться в книгу, как в зеркало, и видеть в нём свои собственные уродства, а заодно и убедиться в том, что на свете живёт много негодяев похлеще него. Приятно иногда вывернуться наизнанку и узнать, что дела у другого хуже, чем у тебя самого. Бодрит, знаете ли.
– Да, таких моментов хватает, – согласно замотал головой Максим. – В моей коммунальной квартире сколько угодно встретишь таких сюжетов и персонажей. Один сосед стал врагом на всю жизнь, потому что я ему не одалживаю денег на водку. А какой смысл ему в долг давать – он никогда не отдаст. У другой соседки сын беспробудно наркоманит, в комнатах хоть шаром покати. Так она весь мир через собственную неустроенность возненавидела. Неужели об этом писать? Обыденно, мелкотравчиво. Скуку навевает. Ведь есть же что-то лучшее в людях?
– Ах вот как. Значит, вы думаете, что красотой спасёте этот мир? – Пилат победоносно ухмыльнулся. Спина его выпрямилась, а пальцы начали дробно выстукивать незнакомый Максиму марш. Затем прокуратор несколько раз обернулся, будто хотел убедиться в том, что в комнате больше никого нет, и только после этого вновь воззрился на своего собеседника. – Красота хороша в застывшей внешней форме: величавость Колизея, колоссы Мемнона, колоннада Пропилеи, статуи Афродиты Книдской и Геракла Фарнезского. Они потрясают. Как восхитительны эти редкие примеры взлёта человеческого духа. А как трогательны весной цветущие апельсиновые сады и набухшие гроздья виноградной лозы осенней порой.
Наместник подтянул к себе блюдо с виноградом и принялся одну за другой отщипывать вишнёвого цвета ягоды и отправлять их в рот. Насытившись, он опять бросил внимательный взгляд на Берестова и промолвил:
– А вы всё хотите найти красоту внутри самого человека? По силам ли задача? В этом материальном мире всё материально, даже чувства.
Смутившийся Максим не осмелился возражать и предпочёл сохранить молчание, боясь нарушить обступившую его тишину. Всюду – в комнате, за портьерами, под плинтусом – всё будто замерло. Он было начал сожалеть, что приехал в этот, как оказалось, совсем незнакомый ему город. Пришёл в эту пугающую квартиру, где встретился с людьми, которые предстали перед ним столь необычными и властными, что подавляли его волю, а логика отказывалась обслуживать его мысли.
– Хотя, по правде сказать, Он был первым, кто сказал о вере в человека, но боюсь, что Он остался в одиночестве в этом своём суждении, – раздался голос от стола. На сей раз лицо Пилата приняло строгое выражение, за которым проглядывал облик неумолимого командира конных турм, ведущего за собой передовую алу в атаку. – Да, я говорю о Нём, о Йешуа Га-Ноцри, которого все мы знаем как Иисуса Христа. И вот что я вам говорю, мой молодой и амбициозный коллега: не пытайтесь проникнуть в Его мысли, понять их, объяснить исходя из привычных вам представлений. Ему можно только верить.
Наступила очередная томительная пауза, нарушить которую первым на сей раз решился ярославский писатель:
– Я верю Ему, но почему вы, который Его видели, разговаривали с Ним, не поверили Ему в тот самый ответственный момент? Как вы решились отправить Его на страшные муки?
Лицо прокуратора стало пепельным. Образ надменного римского военачальника рассыпался, и, похоже, навсегда. Плечи вновь сгорбились, а ладонь правой руки ухватилась за отвалившийся подбородок:
– Я поверил Ему, но толпа иудеев неистовствовала. Ей не нужен был праведный суд. Она требовала кровавого зрелища. Я подчинился их желанию, хотя в душе был уверен, что Он не виновен.
– Да как же так? Как буйство народа могло повлиять на ваше решение, на вас, который был полновластным распорядителем жизни всех этих несчастных, забывших Его благодеяния? За вами же стояло могущество несокрушимых римских легионов и победоносного орла империи! – Писатель в порыве возмущения всплеснул руками. – Как могло вообще такое случиться?
– Как вы, в сущности, наивны, молодой человек. – Пилат не пытался скрыть проступившего у него на лице презрительного выражения. – Да будет вам известно, что нас неоднократно побеждали и Ганнибал, и Ксеркс, и Митридат, и даже варвары-германцы в Тевтобургском лесу, многие. Сила Рима в другом – в политике, в изощрённом коварстве. Мы превзошли всех в искусстве обмана, умении перессорить друзей, переманить на свою сторону союзников своих противников, пообещав им раздел покорённой территории. А как замечательно, постепенно, осторожно, десятилетиями внедряли своих людей в ближайшее окружение чужеземных владык. Лесть, посулы, самые грязные интриги – более верный путь к победе, нежели стальное лезвие испанского меча или копьё-сарисса. И конечно, золото. Золото, которое раньше служило богам, а потом стало служить людям, извратившим его природу и приспособившим для достижения своих корыстных и самых низменных целей. Часто железные римские когорты вступали в сражение только тогда, когда победа в нём была уже для них подготовлена. Вот в чём основа наших «свершений»: тем или иным способом покорить другие народы, отобрать у них умения и богатства, заставить их трудиться и воевать за наше благо. В Иудее я должен был обеспечить спокойствие, чтобы продолжить беспрепятственно собирать налоги, поддерживать местное производство и торговлю товарами, крайне необходимыми погрязшему в роскоши и разврате Риму. Вот моя первостепенная задача и ответственность перед властителем мира, обожаемым Трояном.
Теперь Берестов смотрел на Пилата по-другому, без прежнего восторга, который безотчётно возник у него в начале их знакомства. Ему перестали нравиться как сам пафос отставного прокуратор, его восхищение атрибутами власти, так и главное – презрительное отношение к людям, которых он не различал, а рассматривал исключительно в качестве расходного материала, необходимого для возведения монументального здания государства.
– Вы слишком строги к людям, уважаемый наместник Иудеи, – осторожно подбирая слова, произнёс Максим. – Возможно, они не так плохи и заслуживают лучшего к себе отношения? Да, в них есть и жадность, и безудержная жестокость, но вот если дать им больше добра, внимания, разглядеть в них не только зверя, но и личность, разве их сердца не откликнутся, а душа не прирастёт любовью? Разве тогда вы, как вершитель их судеб, не проявите к ним снисходительность, не согласитесь уравнять свои чувства и мысли с их скромными жизненными целями? Может, тогда и вы назовёте людей братьями, так как они подобны вам, но только вы на вершине Олимпа, а они влачатся в робах нищих и обездоленных?
– Прекраснодушные слова, мой доверчивый незнакомец. Вера в человека! Какая возвышенность! А мой двухтысячелетний опыт, выходит, в зачёт не идёт? Благодарю, благодарю вас. Весьма признателен. – В голосе прокуратора звучала нескрываемая обида. – Я вам толкую, столько рассказываю из того, что было и что я сам пережил, а вы так и не снизошли до самой естественной и несложной вещи – попытаться понять меня. Благодарю ещё раз. А впрочем, на что я надеялся? Давайте лучше пить чай с кардамоном. Напиток очень хорош – недавно привезён из Египта.
Пилат сам снял с горелки подогретый чайник и налил себе полную до краёв чашку, оставив Максима без внимания. После чего принялся сосредоточенно размешивать в ней два кусочка белого рафинадного сахара, который накануне приобрёл в угловом магазине неподалёку. Чай, видимо, был действительно хорош, так как Пилат пил его не торопясь, маленькими глотками и явно смакуя; часто делал перерывы и тогда просто сидел, не шевелясь, и только всматривался в паровую плёнку, поднимавшуюся над светло-коричневой поверхностью горячей жидкости.
Он сохранял упорное молчание. Молчал и Берестов, уже пожалевший о том, что произнёс необдуманные слова, и укорявший себя за это.
– Ладно. Продолжим. Вам позволительно ошибаться, господин Максим Берестов, – наконец смилостивился обладатель серого костюма и роговых очков. – Как-никак вам всего лишь тридцать, и лимит ошибочных выводов и заключений вы ещё не исчерпали. В эти годы и я был ещё так неопытен. Вот если бы позвать сюда Воланда, то он разложил бы всё по полочкам, но он, как говорит высокоуважаемый Михаил Афанасьевич, сейчас далеко. А жаль. Занят, видите ли, поиском своей истины. Ха-ха… Знаем его, не говорите, – «In vino veritas» вернее будет. Так что придётся обходиться своими силами. Кроме того, как я знаю, вы, Максим, живёте в таком уютном, красивом, хотя и маленьком городе, как Ярославль. Я там не был и, к сожалению, наверное, уж не буду никогда. Но я вам завидую и допускаю, что там ещё можно встретить сердечных людей, но в Москве – никогда. Слишком много порока и страсти. Отсюда ваше прекраснодушие.
– Прошу извинить меня за дерзость мою. – Ярославец решил добиться своего – ясности. – Я повсюду встречал неплохих людей. И здесь, в Москве, тоже. Может быть, жёстче других, но всё же. И вы сами, как я понял, в чём-то искренне превозносите императора Трояна и любили свою жену Валерию Прокулу, находя в ней редкостные достоинства. Ведь я прав? Нельзя же мазать всех одной чёрной краской. С этим я не соглашусь никогда.
– Ах, вы изволите не соглашаться. Настаиваете? Я расслышал намёк на безупречность, тогда скажите, у кого она есть? Поразительно. Признателен вам за откровенность. – Прокуратор постучал чайной ложечкой по блюдцу, словно привлекая внимание ещё кого-то, кого в комнате не было. – Замечу, Он точно так же говорил. В минуты отдыха я мог любоваться людьми, когда они пели и танцевали. Посещал мастерские скульпторов, когда они высекали из мрамора великолепные статуи богов и героев, украшавшие храмы и дворцы. Бывало, я видел, каким взором, полным любви и отчаяния, мать смотрит на своего первенца, и это трогало моё сердце. Когда-то я слышал старинную историю, дошедшую из земель, лежащих за горой Меру, о том, что и наш мир был создан Богом в минуту безудержного веселья. Выходит, Создателю многое человеческое не чуждо было. И тогда я вспоминал Его.
– Его самого, Йешуа? – с пылом воскликнул Бекетов.
– Да, именно, Йешуа. Ночью Синедрион осудил Его при стечении многих горожан. Они словно сошли с ума от радости, а утром связанного, под надзором храмовых стражников, вооружённых деревянными дубинками, привели Его к моему дворцу. Пришёл и сам первосвященник Киафа. Все уверяли меня, что Он смутьян и подстрекатель. Там были многие, в том числе те, кто приходил на гору слушать его проповеди, и те, кого он исцелил от падучей болезни, помог встать на ноги и забыть про костыли. Он делал всё, чтобы помочь им. И что же? Не нашлось ни одного, кто бы среди этого крика и выражения ненависти поднял свой голос в Его защиту. Я спрашиваю: почему? Что заставляет людей платить неблагодарностью за добро. Их учат – они не учатся. Им показывают чудеса – они в них не верят, их исцеляют – они платят чёрной неблагодарностью. Таковы люди, так они созданы.
– Мой вывод горек. – Пилат достал из кармана то ли требник, то ли записную книжку в затёртом кожаном переплёте и, слюнявя палец, принялся перелистывать исписанные страницы, пока не нашёл искомое: – На исходе лет, осмысливая прожитое, я сделал такую пометку: «Господь дал человеку свободу выбора, чтобы тот имел возможность делать ошибки. Богу не нужен безгрешный человек, иначе как он узнает, что перед ним действительно Его создание с душой и телом, а не безупречный механический автомат. Наши прегрешения есть всего лишь посылка для того, чтобы заняться их исправлениями. К добру всегда прилагается зло, и лишь так мы узнаем, что такое добро. Вот и всё». По мне, откровенный грешник милее, чем скрытый праведник, так как первого я лучше понимаю. Вы разделяете моё мнение?
– Да. Возможно. Не знаю, не уверен, но скажите мне всё же: вы-то знали, что Йешуа ни в чём не виновен?
– Да, знал, и не только я один, но и царь Ирод Антипа лишь посмеялся над злобными наветами. Меня интересовал только один вопрос: почему Йешуа называл себя царём Иудейским? Он мне ответил на это: «Ты так сказал, и Моё царствие не отсюда, а ты имеешь власть надо Мной лишь по Его позволению». Он был Сыном Божьим, но это понять мне довелось много позже. Чем мог быть опасен для власти этот человек, который на неё не претендовал? Разве ему нужен земной престол? Нет. Он его презирал. Он хотел помочь людям, рассказывал о вечной жизни и не предлагал поклоняться Ему, а убеждал только верить во имя спасения самого человека. И что же? Людям всего этого было мало. Они видели чудеса, слышали Его слова, а потом смеялись и предавали их забвению.
– А где же были его последователи, ученики? Неужели они остались безучастны к его судьбе?
– Не думаю, но они были тогда только людьми, со своими слабостями, сомнениями, страхами, проводили время в дискуссиях и противоречиях. Что тут скажешь? Все мы умны задним умом. Но всё же слышал я, что во время ареста Христа Его ученик, Пётр, впоследствии принявший за Него мученическую смерть в Риме, своим мечом пытался отбиться от стражников. Йешуа был известен многим и ни от кого не скрывался. Он что, возглавлял конспиративную секту? Нет. Он ходил открыто, радуясь всему сущему и живому.
– Почему всё-таки Он, а не кто-то иной, почему только Он возбудил такое ожесточение и великий гнев Синедриона и народа, доверившегося своим священникам? Ведь много разных паломников и проповедников бродило тогда по Галилее и Иудее.
– У меня нет ответа, да и кто я такой, чтобы судить о таких сложных вопросах; но в своих размышлениях за долгий срок пребывания в «междумирье» я пришёл к выводу о том, что всё дело в слове. Полагаю, Киафа раньше других понял силу Его слова и по-человечески испугался, что утратит своё влияние. А возмутить народ – дело нехитрое. Достаточно с высоты своего сана громогласно объявить о виновности обычного мирянина, и вам поверят. Несложно столкнуть камень с вершины горы, и он увлечёт за собой лавину. Я потом не раз пожалел о том, что в тот день, накануне Пасхи, приехал из любимой Кесарии в этот вечно беспокойный и бурлящий Иерусалим. Если бы не приехал, может быть, мне удалось бы избежать сопричастности к этому убийству.
Вновь обозначались звуки и шорохи, и что-то прошелестело в воздухе. При закрытых окнах повеяло таким свежим ветром, будто он долетел до Большой Садовой из далёкого взморья, напоённого запахом раскалённых пустынь Аравии и цветущих олив. Мигнула и притухла потолочная лампа, и Берестову вновь стало казаться, что перед ним сидит не скромный низенький человек в мятом костюме, а могущественный наместник покорённых территорий. Всё та же пурпурная туника-таларис, расшитая золотистыми пальметтами в форме пальмовых листьев и прикрытая белоснежной мантией. На ногах сандалии из мягкой кожи, украшенные серебряными стяжками, а главное, не обыденное лицо со скошенным подбородком, а чеканный профиль римского аристократа, которого окружают вышколенные легионеры в полной амуниции с короткими мечами-спата.
– Не вправе я судить ни вас, ни тех несчастных, которым потребовалась Его кровь и жуткая кончина на кресте, – тихо промолвил ярославский писатель. – Над вами дамокловым мечом висел рескрипт императора, повелевавший искоренять любую смуту в пределах зоны вашей ответственности, а те, забывшие свою совесть, что кричали о Его смерти, были простыми городскими ремесленниками и землепашцами. Что они видели в своей жизни, кроме стёртых в мозоли ладоней и сучковатого древка мотыги, которой рыхлили пересушенную землю в надежде, что уберегут от злого суховея нежные ростки пшеницы. Я знаю силу толпы, в которой даже смелый становится робким, а самый принципиальный легко меняет свои взгляды. Что с них взять?
– Верно, – опять оживился прокуратор. – В словах Йешуа было мало антигосударственной крамолы. Он видел перед собой другую цель, о которой ещё не знали и не догадывались все эти люди. Он поразил меня своими словами о любви, о любви к человеку и о том, что только любовью может быть спасён этот мир, а человек заслужит наконец прощение за свою греховную земную жизнь и обретёт надежду на новую, небесную. Говорил, что без любви нет света ни на этом свете, ни на том. Как это просто и как неимоверно сложно. Кто мог так ещё сказать, как не Сын Божий. Кесарь, философ, оратор на подиуме? Таких никогда и ни в какие времена не было. Он – первый. Вот что сделало Его нашим Спасителем. Я могу себе представить, что я люблю своих детей, люблю свою жену, и то до тех пор, пока она не изменила мне. Но чтобы вот так безотчётно любить всех людей – такого я даже представить себе не могу. А Он мог. Кто мог внушить Йешуа такую мысль? Отец, мать, люди, которые встретились Ему на пути? Нет, не верю. Тогда кто? Наверное, тот, кто мудрее и выше человека.

