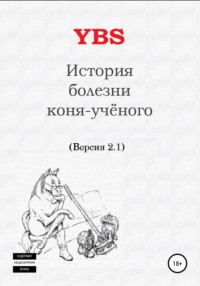
История болезни коня-ученого
Маршал Гречко, обладавший всеми навыками штабиста, мог похвастать и отличной памятью, и не успел Аркадьев договорить, как замминистра обороны уже прорычал адъютанту: – Командующего Прикарпатским округом!
Через мгновения телефон звякнул, и по громкой связи раздался бравый рапорт:
– Товарищ маршал Советского Союза, по Вашему приказанию командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник танковых войск Гетман!
– С каких пор, генерал-полковник, Вы перестали быть военным человеком?!
На том конце провода поперхнулись и просипели, да как же, он всегда…
– Военным человек остается до тех пор, пока беспрекословно выполняет приказы старших по званию! Вам две недели назад было приказано направить рядового Басюка в распоряжение ЦСК МО! В чем дело? Почему не выполнен приказ?!!!!
– Товарищ маршал, все будет немедленно исполнено!
Оказалось, что зам Гетмана по физподготовке, страстный фанат львовского СКВО[21], просто засунул приказ московского начальства под сукно: всегда есть шанс, что большие чины по прошествии времени забудут, что приказали. Но тут не свезло – с должности зам слетел с громовым треском, потому что из-за какого-то физкультурника и какого-то рядового Басюка генерал-полковник выволочки от замминистра обороны получать не желал. В мгновение ока рядовой оказался в Москве и приступил к тренировкам. Если не ошибаюсь, сыграл он за московских армейцев в трех или четырех матчах, а потом был отчислен – бухал…
В 62-м Разинского в одночасье выперли за компанию с Апухтиным, Линяевым и Орешниковым, тогда говорили – за пьянку на выезде. Сам Борис Давидович как-то объяснялся в прессе, что у него конфликт был с тренером. Так или иначе, его карьера в ЦСКА закончилась, а игра у наших сломалась… Я потом долго спотыкался о фамилию вратаря в составе армейцев, настолько привык к Разинскому. А он «пошел по рукам» – играл за «Спартак», за Киев, за Одессу, там, кстати, пару раз выходил нападающим, но уже никогда не достигал того уровня, на котором держался у нас. Такого стабильного и так долго играющего вратаря в ЦСКА потом не было, пожалуй, аж до самого Астаповского.
За номером «два» (правого защитника) в моей детской памяти осталась вереница имен, начинавшаяся с Алешина, и имя им – легион… А вот стоящий по сию пору перед глазами зрительный образ: во всю широченную спину огромная «тройка», которую носили центральные защитники – это Анатолий Башашкин, столп обороны и ЦДСА, и сборной. Тогда еще доигрывали «дубль-вэ», и номера были довольно строго регламентированы: со второго по четвертый – защитники, «5» и «6» – хавы, «семерка» и «11» – края нападения, «девятка» – центрфорвард, «8» и «10» – инсайды. Даже выход игрока под номером, не соответствующем расстановке, был на полном серьезе тактическим ходом, особенно если это малоизвестный дублер.
Башашкин запомнился несокрушимой скалой, о которую расшибались все вражеские атаки. Странно было потом читать, что вот там Башашкин ошибся, и там. В моей памяти он остался безупречным. Потом, когда он – последний из игроков поколения «команды лейтенантов» – сошел, в центре обороны появились Михаил Ермолаев и Виктор Дородных, позже пробовавшиеся и в сборной. А уже вскоре заиграл совсем молодой Альберт Шестернев, который в моем представлении добился даже большего, чем его великий предшественник.
Тогда через ЦДСА год за годом шла вереница игроков из разных команд, в основном, из окружных и флотских, но даже я со своей отличной детской памятью всех запомнить не мог. Прочно осталась в памяти целая группа из свердловского ОДО, они играли у нас очень долго – Николай Линяев, Дмитрий Багрич, дотянувший аж до 70-го, и Эдуард Дубинский – исключительно злой агрессивный защитник, который первым из армейцев после ухода Башашкина прорвался в сборную. Он стал одним из практически незаменимых игроков, пока на первенстве мира в Чили в 1962-м югослав Муич не сломал ему ногу. Потом Эдуард долго лечился, вернулся, но скоро сошел и умер 35-ти лет от роду от саркомы, возможно спровоцированной тем переломом.
Линяев поначалу играл в полузащите, игрок был скоростной, с неплохим пасом и ударом. При том, что хавы тогда забивали немного, не раз отличался в атаке. Потом его часто стали отодвигать в оборону, и он вместе с Виктором Дородных составил пару центрбеков.
Багрич – тоже редкий случай игрока, который держался у нас при всех тренерах. Сначала – просто крепыш, несколько неотесанный, но с годами – все более прочный, а с середины 60-х – даже безошибочный, с прекрасным отбором. Я его очень любил – и за долголетие службы, и за надежность, и за то, каким он был волевым игроком. И просто мужик был симпатичный – с болельщиками разговаривал дружелюбно, и с нами – пацанами. Он, между прочим, и в атаку по краю хаживал, что тогда было не очень распространено, а чужих нападающих прихватывал плотно и считался одним из самых трудно проходимых. В сборную его приглашали мало – на левом краю все время были сильные конкуренты, а к Багричу прилипла репутация вечно третьего в стране… Последний матч Дмитрий сыграл в чемпионском 70-м году и золотую медаль не получил, а жаль… [22]
Как раз на позиции левого бека в сборной фаворитом был поигравший у нас в нападении Анатолий Крутиков, которого нашли в московском «Химике», но упустили в «Спартак». Ничего сверхъестественного он в ЦДСА не показывал и результативностью не блистал, а вот у красно-белых вдруг оказался в линии обороны – и как будто там и родился. Вот тут его скорость пригодилась и в отборе, и в рейдах по краю, которые он стал предпринимать систематически и остро. Достаточно быстро заиграл за сборную, а я все не мог простить предательства – помнил, что начинал-то он у нас.
Были у нас и классные хавбеки – Иосиф Беца и Александр Петров, хотя с этим у нас всегда было напряженно. Играли у нас и яркие нападающие, тогда и вообще забивали побольше, чем нынче, и идеологически считалось, что дело армейских спортсменов – атака. «Красная Армия будет самой нападающей из всех нападающих армий мира», как говорилось в Полевом уставе 39-го года. В передней линии у нас играли Василий Бузунов, отличавшийся сумасшедшим по силе ударом, и качественные форварды Владимир Агапов, Виктор Емышев и Юрий Беляев. В какой-то год армейцы даже забили больше всех и на радостях учредили приз Григория Федотова – самой результативной команде, да так с тех пор до 2002 года ни разу его и не выиграли. И в памяти у меня крепче всего осела именно игра защитников, может быть, потому, что в самых важных играх основная нагрузка падала именно на них. И в сборную, по большей части, попадали и задерживались там именно наши беки. Уж что-что, а защита у нас тогда была сильна…
Год великого перелома
56-й год – последний перед поступлением в школу – оказался переполненным событиями, серьезно повлиявшие на всю мою дальнейшую жизнь. Еще зимой к нам во двор заглянул коклюш, перезаразил всех детей и меня не миновал. Я вспоминаю о нем с теплотой, потому что за время этой долгой, но необременительной болезни ко мне поменьше приставали с разными обязанностями и не мешали читать. Правда, не выпускали на улицу, но это оказалось к лучшему!
Вдруг в феврале всё БПК загудело, как улей в период интенсивного медосбора. К нам в комнатку, отделенную от учреждения только метровым коридорчиком, стаями забегали сотрудники – обменяться мнениями по фантастическому поводу – в парторганизации зачитали письмо ХХ съезда КПСС и речь Хрущева о культе личности Сталина. И теперь партийцы пытались переварить полученную информацию, а беспартийные – выяснить у них как можно больше деталей, потому что в открытой печати ничего не публиковалось. На меня никто не обращал внимания, считая, что я слишком мал. Они были, конечно, правы – деталей большей части их разговоров я не понимал, но ухватил главное: ЧТО-ТО НЕ ТАК, как мне все время говорили по радио. Дедушка Сталин, похоже, не такой уж хороший! Не надо слепо верить всему, что мне говорят! Может быть поэтому, став старше, я с таким энтузиазмом воспринял девиз Маркса: De omnibus dubitandum[23], а уже студентом, на своей шкуре осознал, что это – главный принцип научного мышления.
Почти сразу за этими событиями последовала волна публикаций о жертвах сталинских репрессий, которые я поглощал, как и любую печатную информацию, а она запечатлевалась в детском мозгу так, что вырубишь только топором. И тут выяснилась интересная вещь: оказывается, родители прекрасно знали имена тех расстрелянных военачальников – Тухачевского, Якира, Уборевича, а киевская бабка хранила в сердце самые теплые чувства к Постышеву, долгие годы бывшему партийным лидером на Украине.
Как-то мама упомянула, что перед войной в старших классах им приходилось чуть не каждый день закрашивать на фотографиях в учебнике истории то одного деятеля, то другого… У нас в семейном альбоме тоже обнаружился интересный образчик: мама четырех лет, т. е. это 1927 год, и ее старшие братья, но пространство между ними аккуратно выстрижено ножницами – сейчас уже некого спросить, кого из родственников, о которых вспоминать было опасно, таким образом устраняли.

Дети семьи Костинских. Слева направо: Миша, Базя, Яша и Петя. В центре кого-то устранили. Семейный архив
Вот и портреты Сталина почти сразу со стен поисчезали, а когда мы на майские праздники пришли на «Динамо» на открытие сезона, оказалось, что и его статуя у Северной трибуны куда-то делась, и от нее остался только пустой пьедестал.
Оказалось, что и дядя Коля – Николай Михайлович Иваницкий – коллега отца, с семьей которого, жившей полуэтажом ниже, у нас были самые добрые отношения, и Виктор Алексеевич Ларичев, старейший работник БПК, сотрудники Рамзина – были тоже осуждены и отсидели по процессу Промпартии… Эту информацию мне переварить не удалось – дядя Коля был интеллигентнейшим человеком, и совместить в сознании его образ с понятием «преступник» у меня никак не получалось.
А в начале лета произошло то, на что я и надеяться не мог: на Динамо при большом стечении народа провели матч ветеранов ЦДСА и «Динамо». Тогда я увидел на поле ВСЕХ наших великих. В воротах Никаноров, в защите – Чистохвалов, Кочетков и Нырков, в полузащите Водягин и Соловьев, великая пятерка нападения – Гринин, Николаев, Федотов, Бобров, Демин в полном составе. Это был их последний матч. Ждал я, конечно, чего-то невероятного, а увидел медленно двигающихся мужиков, у которых их мастерство проблескивало лишь время от времени. Наши пробовали играть на Боброва, но у того ничего особенного не получалось… Не то, чтобы я разочаровался, а огорчился. Да еще проиграли 0:1. По-моему, Шабров нам забил. И все же я их всех видел на поле! Года через полтора не стало Григория Ивановича – он ушел неполных сорока, первым из той когорты.
От того лета осталось и еще одно важное воспоминание. Незадолго до очередной годовщины начала войны я стоял на крыльце нашего дома и услышал по радио из комнаты соседей стандартное для того времени перечисление основных вех Великой Отечественной: вероломное нападение, разгром немцев под Москвой, Сталинград, Курская дуга, Победа… И вдруг осознал какое-то царапающее несоответствие: Красная Армия – «непобедимая и легендарная», так меня учили, а разгром немцев – под Москвой?!
Я уже ездил летом в гости к бабушке и дедушке в Киев, и знал по собственному опыту, что на поезде туда – 15–16 часов. Я и географическую карту помнил и знал, что от Киева до ближайшей границы Советского Союза – еще столько же, сколько от Москвы. И как же получилось, что первый разгром немцев – под Москвой, если немцам даже на скором поезде от границы – больше суток? И эта мысль надолго засела, как заноза[24], пока новые источники информации, ставшие доступными после падения СССР, не внесли в этот вопрос ясность… Для нашей семь та война стала огромной катастрофой, в которой бабка только с материнской стороны насчитала 35 убитых, из коих пятеро – в боях, а старики, женщины и дети по ямам Киева и Волыни.
Еще одно принципиальное событие ознаменовало то лето: уже надрессированный выносить на помойку мусорное ведро, я был отправлен мамой в булочную. Надо было протиснуться между прутьями забора казармы музкоманды, дворами выйти на Красноармейскую, а там до бревенчатого домишки булочной оставалось метров 100. Добрался я до нее без проблем, только позабыл, что надо сначала выбить чек в кассе, а уже потом идти с ним к продавщице. Ну, да ничего, добрые люди подсказали, по-моему, даже пропустили без очереди, и я выполнил свое первое боевое задание – купил батон за рубль-35[25]. Сейчас, наверное, только совершенно безумный родитель отправит шестилетнее чадо в булочную без конвоя, даже если надо просто выйти из двора. Но тогда это было в порядке вещей, и я отнюдь не раньше всех был пристроен в семье к делу.
И, наконец, главное, что случилось в тот год, было важнее и крушения авторитета дедушки Сталина, и выполнения первых самостоятельных заданий. Мама решила, что окончательно выздоровела для того, чтобы возобновить работу. У нее были серьезные резоны для этого: она была совсем молода, не утратила интереса к профессии и очень страстно переживала обстоятельство, которое сейчас покажется ничтожным или непонятным. За время болезни у нее истек срок действия паспорта, и в новый, поскольку она не работала, в графу «социальное положение» всадили обидное – «иждивенка». Еще одной причиной, по которой мама стремилась вернуться к работе, было элементарное безденежье, из-за которого отец не раз уезжал на свои электростанции, оставив нам с мамой почти все командировочные.
Перед тем, как выйти на службу, мама решила со мной съездить в гости к старшему брату Пете, служившему в Балаклее в артиллерийском арсенале. По иронии судьбы после войны полковника Петра Костинского назначили туда, откуда весной 42-го он, раненый, чудом выскользнул из окружения, которое заворачивалось над нашими войсками, наступавшими на Харьков.
Та поездка оказалась для меня полной открытий. Уже на станции Балаклея я впервые обнаружил, что на вокзале может не быть перрона, и надо спускаться прямо на землю (даже на большинстве подмосковных дачных станций уже были высокие платформы). Дядя Петя встречал нас на станции на машине с какой-то странной не виданной мной прежде эмблемой – круг, разделенный на четыре части – накрест белого и голубого цвета. В Москве я таких не встречал – там добегали свой путь последние «эмки», улицы заполоняли «Победы» и откровенно передранные с «Опель-Кадета» «Москвичи»[26], появились самые первые «Волги», еще много было на улицах «виллисов» и «студебекеров», а вот такой, как у дяди Пети – не было. Только взрослым я установил соответствие между запомненным мной в детстве знаком и мировой маркой BMW… В Москве почему-то эти трофеи быстро вышли в тираж, а на периферии их бережно холили и лелеяли, и вот – кое-что дотянуло до середины 50-х, спустя минимум 11 лет после того, как их взяли с бою… И телефон у полковника Костинского в квартире стоял не такой, как висел у нас на Нарышкинской на лестнице, – цифр на диске не было, а был такой шпенек. За него надо было подергать диск, тогда на узле связи раздавался звоночек, и телефонист на узле связи говорил: – Алло? И надо было назвать ему номер, с которым хочешь соединиться.
Где-то через неделю после нашего приезда в жизни Балаклеи произошло важнейшее событие – матч между командами арсенала и гарнизона. Трибуны довольно большого стадиона заполнились битком и шумели не хуже московских. Игра была упорной, по-моему, закончилась безрезультатно, но в детской памяти осталось: как же так, играют две армейские команды, а цвета какие-то динамовские – одна команда во всем синем, а другая – для отличия в белых трусах. Я оскорбился – по наивности, а на самом деле, играли в том, что можно было достать – советская текстильная промышленность разнообразием цветовой гаммой не баловала.
Работой, которую нашла мама все на той же Ходынке, была вольнонаемная должность оперативника Главной аэрометеослужбы ВВС. Три дня она ходила на работу, как все нормальные люди, а на четвертый уходила на сутки, а потом день отдыхала. Я часто бывал у мамы на работе, смотрел, как они там составляют карты погоды для военной авиации – красными и синими карандашами разрисовывают контурные карты, показывая антициклоны, циклоны и атмосферные фронты. Мне там можно было постучать на пишмашинке и покрутить арифмометр «Феликс».
Все бы ничего, но, когда лето миновало, оставлять меня одного на целый день исключительно под присмотром соседей мама побоялась, а это означало, что мое домашнее детство окончилось. Шести лет отроду я оказался в структуре Советской Армии в лице 495-го детского сада Военно-Воздушных Сил, который дислоцировался на Верхней Масловке.
Идти туда было недалеко – только пересечь Петровский парк. Я детского сада не боялся – все слова, которые положено знать, мне уже были известны. А вот к некоторым особенностям детских коллективов принудительного содержания я готов не был, и это на некоторое время стало проблемой. Попал я в «подготовительную» группу, в которой ребята пробыли вместе года по три, а я – новенький… Раза три возникали драки без соблюдения джентльменских правил – трое на одного…
Приехавший из очередной командировки отец приметил, что я не весел, а, может, и разглядел следы боестолкновений на моей физиономии, и поинтересовался, как у меня дела в детсаду. Ну, я ему и пожаловался на горькую судьбину. Папа на это ответил, что, чем жаловаться, надо дать отпор, а на возражение, что противников много, сказал, что, если как следует съездить одному, то и у остальных охота отпадет.
Тут же был организована тренировка: используя вместо тренерских «лап» подушку, папа ставил мне удар, учил проводить серии. Главное, сказал он, – постараться акцентировать удар. Не могу сказать, что за пару уроков я овладел техникой, но почувствовал себя увереннее и даже с некоторым нетерпением ждал случая применить свои новые навыки.
Ждать долго не пришлось: через день или два заводила нашей группы и мой главный враг Сережка спровоцировал драку, пока в комнате не было воспитательниц. Мы сцепились и сначала махали кулаками бессистемно, а потом я вспомнил папины уроки, сосредоточился и, не обращая внимания на мелкие тычки, провел правый боковой, подхлестнув корпусом. Удар пришелся точно в нос, а результат поразил всех – и Сережку, и ребят, и меня. Из носа страшной струей хлынула кровь, мгновенно превратив его белую рубашку в красную. Дело было, конечно, не в сокрушительной силе моего удара, а в том, что попался «слабый нос», в котором относительно крупные сосуды располагаются близко к поверхности и достаточно хрупки… Сережка зашелся от рева, не знаю от чего больше – от боли или от страха. Ух, а я-то как испугался! Это ж я его, что там ни говори, что он первый полез.
Когда прибежали воспитательницы и после долгих усилий остановили кровь, они отправили меня в угол по-серьезному – минут на двадцать, а, главное, стращали, что все расскажут моим родителям… Я стоял в углу, и было мне очень муторно и от вида мною содеянного, и от мрачных предчувствий, что мне скажет вечером мама…
…А пришел папа. На инвективы воспитательниц он твердо ответил, что не сомневается, что его сын драку не затевал, а если дал кому сдачи, так это он, папа, меня этому учил и несет за это полную ответственность… А им, воспитательницам, хорошо бы получше следить за порядком во вверенном им подразделении. На том и расстались. Забавно, что с этого дня мы с Сережкой стали лучшими друзьями.
Когда на лето детсад вывезли на дачу по соседству с пионерским лагерем все тех же ВВС, наша подготовительная группа на птичьих правах, но все же протырилась на церемонию открытия смены. Там пионеры маршировали, салютовали, и в завершение, на сладкое, состоялся футбольный матч команд первого и второго отрядов в настоящей нарядной футбольной форме. Это было тогда повсеместно хорошим тоном: торжественная церемония, парад, а потом – футбол…
И уверенность в победе…
Олимпиады в Кортина-д’Ампеццо и Мельбурне – первые, о которых я сам помню отчетливо, хотя и не видел ничего, как и все советские люди. А жаль! Ведь количество и качество триумфов на них оказалось беспримерным – победы и хоккеистов, и футболистов в одном цикле случились потом только 32 года спустя – в Сеуле и Калгари, когда мы уже могли наслаждаться этим зрелищем в реальном времени. А тогда это еще и было форменной сказкой про Золушку – в общем-то совершенные новички на международной арене, да еще в таких уважаемых и конкурентных видах победили всех на свете. Так, по крайней мере, у нас говорили, писали и думали – я-то точно был уверен, что мы лучше всех! Это только потом оказалось, что на футбольный турнир Олимпиады главные силы мирового футбола не ездят, а на хоккейных турнирах играют канадские любители, а у них есть еще и профессионалы – с которыми, вроде как, в мире никто не может сравниться…
И все-таки я и сейчас не стану думать о тех победах уничижительно. Хоккей к моменту Олимпиады у нас развивался 9 лет! И пусть канадских профессионалов в Кортине не было, но всех остальных, в том числе тех, кто играл в эту игру еще с окончания Первой Мировой Войны, наши грохнули, а гения хоккея Всеволода Боброва признали специалисты всего мира. И даже канадцы поговаривали, что этот парень не пропал бы и в НХЛ, в которой тогда было всего 6 команд…
Раз уж пришлось к слову – попробую объяснить реалии того и последующего времени. Олимпийское движение, сформировавшееся в конце XIX века, опиралось на очень строгие представления о том, кто может в нем участвовать. Барон де Кубертэн, подозреваю, вследствие своего аристократического происхождения, чрезвычайно жестко и настойчиво проводил идею абсолютного бессеребреничества олимпийского спорта, что резко сокращало возможности участия в этих соревнованиях всяких парвеню и пролетариев, у которых просто не могло взяться денег на экипировку, тренировки и поездки. В историю вошло издевательство над американцем индейского происхождения Джимом Торпом, который на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме выиграл две золотые медали в пятиборье и десятиборье. Его этих наград лишили, когда всплыло, что Джим выступал в США за бейсбольную команду и получал за это небольшие деньги.
Вступление Советского Союза в олимпийскую семью эти аристократические правила моментально пустило псу под хвост. Спорт в СССР еще до Второй Мировой Войны был совершенно профессиональным в том плане, что ничем иным, кроме как своим видом, спортсмены высшего уровня не занимались, получали неплохие по советским меркам зарплаты и стипендии, и потому имели огромное преимущество перед зарубежными коллегами-любителями, которые вправду вынуждены были зарабатывать себе на жизнь, учебу и спорт. Оттого-то еще на Хельсинкской Олимпиаде удалось достичь сенсационных побед и сравняться с американцами по числу золотых медалей, а дальше – пошло-поехало, нагло отхватывая золото мировых спортивных форумов во все возрастающем объеме.…
Попытки вежливо указать советскому руководству на отчетливо профессиональный характер спорта в СССР было издевательски отражены заявлением, что у нас спортсмены – все работяги, студенты, солдаты и офицеры, а проверить это, при тогдашней закрытости советского общества, нечего было и мечтать. Смешно вообразить, как олимпийская комиссия приезжает на место службы капитана футбольной и хоккейной команды майора ВВС Боброва. Еще смешнее, если бы они приехали проверять спортсменов-динамовцев… И, вообще, наши сказали буржуям: – Слабó! И продолжили золотую олимпийскую жатву.
Терпеть такое долго серьезные державы не стали, и идиотские пуристические правила олимпийского движения были сначала ослаблены, а потом пущены побоку, в чем надо признать огромную заслугу советского и прочего социалистического спорта. Когда ограничения отменили, стали сказываться финансовые возможности стран Запада, но и огромную мощь, набранную социалистической системой спорта высших достижений никто устранить не смог… Между прочим, кое-что Европа с успехом у нас переняла, и вот уже сборные Германии и Франции по биатлону, включая женские, сплошь состоят из военнослужащих бундесвера и французской армии.
А пока выученики хоккея русского прекрасно адаптировались к хоккею канадскому и, помимо европейских конкурентов, прихлопнули и родоначальников этого вида спорта – в те буколические времена Родина хоккея брезговала формировать сборную хотя бы из любителей и посылала на мировые первенства и Олимпиады победителя Кубка Аллана – это был такой приз для канадских любительских команд, в тот раз – «Китченер-Ватерлоо Датчмэн». Вот их-то наши и переиграли и лично меня совершенно убедили, что мы – лучшие в мире.
Когда в Москве в 57-м на первенстве мира мы проиграли шведам, – это был шок. Да, в последних играх Бобров и Бабич не играли из-за травм, но не мог я поверить, что кто-то, вообще, может наших победить, я же был нормальный советский ребенок с комплексом превосходства и мессианства, всосанным с молоком матери и В-кефиром. Так этот швед Тумба-Юханссон [27]и остался где-то сбоку от внутренней модели мира.