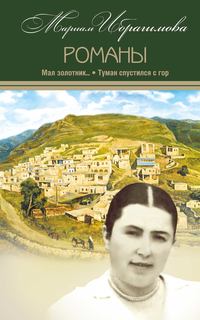
Мал золотник…; Туман спустился c гор
– Брат мой, неужели ты думаешь, что это дело моего языка?
– Я верю, что никому из посторонних ты об этом не говорил. Но ты мог поделиться нашей тайной со своей Набат.
Али-Султан задумался, припоминая, говорил ли он жене о том, что Марина работала в деревне свинаркой или нет.
– Быть может, и моя вина в том есть, – пожал плечами Амир-Ашраф. – Надо было ещё раз предупредить тебя о нашем уговоре: жене – ни слова. У женщин всегда язык работает лучше, чем голова. Ты ведь знаешь старую притчу о том, что разум человеческий каждое утро в момент пробуждения обращается с мольбой к языку, чтобы он поменьше двигался и больше держался за стиснутыми зубами: из-за чрезмерной подвижности языка страдать потом приходится голове. Разумный муж не должен доверять жене сокровенные тайны. Не зря говорят: муж должен выслушать жену и сделать всё наоборот. Стоит жене рассказать о чём-нибудь хотя бы одной своей приятельнице, как об этом тут же узнает весь аул.
Али-Султан развёл руками:
– Прости, брат мой, возможно, я и проболтался жене. Ты же знаешь мою Набат. Если захочет что-нибудь выведать, так приластится, что и не заметишь, как самое сокровенное вытянет из твоей души. Но мне казалось, что ничего тайного в этом давно уже нет. Ведь всё раскрылось само собой, и ничего плохого в твоём поступке я не вижу.
– Я был уверен, что совершаю доброе дело. И теперь не сомневаюсь в этом. Но почему всё оборачивается против меня? Почему люди осуждают меня? Почему даже моя старуха не хочет понять меня? – с горечью произнёс Амир-Ашраф.
– Не обращай внимания на это. Те, что сильнее нас разумом, всё поймут, те, кто мыслят так же, как мы, не осудят, и только глупцы могут причинить неприятности.
Когда Амир-Ашраф беседовал с Али-Султаном в саду, Марина с сыном подошла к дороге, ведущей в город, и стала ждать попутную машину.
Едва Амир-Ашраф ступил на порог своего дома, как из двери выскочил встревоженный Керим.
– Марина ушла! – крикнул он.
– Что такое ты говоришь? Куда ушла? – не понял сына Амир-Ашраф.
– От нас ушла. С сыном Амиром. Решила уехать.
– Кто тебе сказал?
– Мать.
– Когда же она ушла? – заволновался Амир-Ашраф.
– Недавно. Я пришёл с работы, чтобы потеплее одеться, и не застал их уже дома. Побегу, может, они ещё не успели уехать.
– Беги, сынок, побыстрее беги! Верни их! – крикнул Амир-Ашраф вслед Кериму и сам поспешил за ним.
Взобравшись на вершину холма, он облегчённо вздохнул.
Марина сидела с его внуком на огромном валуне, у дороги, вьющейся под гранитной стеной. Рядом, на другом камне, стоял чемодан. Заметив бегущего дядю Керима, Амир соскользнул с колен матери и бросился ему навстречу. Подхватив племянника на руки, Керим подошёл к Марине, о чём-то заговорил с ней.
Амир-Ашраф, опираясь на палку, спустился с холма, направился к ним. Принял внука из рук сына и, прижав его к своей груди, сказал, переведя дыхание:
– Дочка, так не надо… Нехорошо… Я любит Амирчик… Амирчик мой внук… Ты наш дочка… Зухра дурной баба… Она станет хороший… Селим будет хороший папа. Керим хороший… Умму хороший… Идём домой…
Амир-Ашраф говорил так взволнованно, так проникновенно, что Марина не удержалась от слёз.
– Не плачь, – стал успокаивать её Керим. – Мама станет доброй. Скоро она привыкнет к тебе, и всё будет хорошо. Уверяю тебя. Пойдём домой, и больше так не делай.
– Нет, мне лучше уехать. Ну, кто я в вашем доме? Приживалка с ребёнком. Скандалы и ссоры из-за меня. Нет, я уеду. Не пропаду в деревне. А тебе и папе буду писать. Мы ведь родственники. Я никогда не забуду ваше тёплое отношение ко мне.
– Напрасно ты всё это говоришь. Отец не отпустит тебя. И не надо его обижать. Он не вынесет, сляжет снова.
Разве ты не видишь, что он теперь только внуком и живёт? Он сделает всё возможное, чтобы в доме воцарился покой.
Амир-Ашраф, прижимая к груди внука и опираясь на посох, направился к аулу.
Керим подхватил чемодан Марины:
– Пошли. Дома обо всём поговорим.
Марина, понурив голову, побрела следом за Керимом.
Войдя в дом, Амир-Ашраф опустил на пол внука, дал ему горсть леденцов и молча отправился в свою комнату. Вскоре он позвал к себе жену и дочь. Когда они вошли, Амир-Ашраф строго посмотрел на них и, потрясая посохом, сказал:
– Запомните: до тех пор, пока я буду жив, эта русская женщина, мать моего кровного внука, будет здесь пользоваться равными правами с вами. Если вы опять станете относиться к ней плохо, я оформлю дом, в котором мы все живём, на имя её сына, нашего внука, первого продолжателя моего рода. Это я сделаю независимо от того, будет с ней жить Селим или нет. И в любом случае Марина останется в моём доме на положении второй дочери. Я считаю, что она ничем не хуже самых лучших наших женщин. А теперь без всяких возражений идите, помня то, что я сказал. Болтовню уличную и сплетни бабские отныне оставляйте за воротами дома.
Зухра и Умму, не обронив ни слова, вышли.
Амир-Ашраф пригласил к себе Марину и сказал ей, что отныне она его вторая дочь, что теперь никто не посмеет обидеть ни её, ни ребёнка. И что он поможет ей найти своё счастье в жизни…
После этого события в доме Амира-Ашрафа воцарился мир – хрупкий, ненадёжный, но всё-таки мир.
Глава пятая
Всевышний Аллах почему-то не за-хотел, чтобы послушный и преданный его раб мулла Амир-Ашраф жил в покое. И в один из дней пожелал, чтобы слепой муэдзин Хаджи-Муса задержал почтенного предводителя правоверных в мечети после очередного молебствия и рассказал ему о непристойных разговорах некоторых прихожан.
– Да простят меня всемогущий, вездесущий, всевидящий Аллах и его верный пророк Магомед, – сказал Хаджи-Муса, склонив голову. – Может, я беру великий грех на душу, решив омрачить твоё настроение. Но всякому смертному лучше огорчиться, узнав, кто его недруги, кто, отягощённый худшими из пороков, уклоняясь от добродетели, предаётся клевете, стараясь очернить чистого, нежели доверчиво смотреть этим людям в глаза.
Хаджи-Муса помолчал, потом заговорил снова:
– Третьего дня, засидевшись допоздна на годекане, я услышал слова, от которых зашлось моё сердце и одеревенели руки и ноги. Незрячий я, но душа у меня не слепа, а обострённый слух позволяет по одному произнесённому слову узнавать говорящего. Первым разговор, недостойный истинного мусульманина, начал небезызвестный тебе Чопан. Этот греховодник без зазрения совести разглагольствовал о том, что ты, Амир-Ашраф, приютил в доме иноверку с незаконнорождённым ребёнком, что, угождая им всем, ты всяко притесняешь своё семейство и что на тебя надо заявить в милицию…
Вслед за Чопаном начал свой тайный суд Абдулла. Тот самый Абдулла, на месте которого я бы стеснялся смотреть людям в глаза. Он говорил, что ты как мулла не должен прикасаться к неверному дитю, так же, как к собаке, а коли коснулся, должен совершить омовение лица, рук и скверных мест, а перед приходом в мечеть, так же как после близости с женой, подвергнуть тело своё очищению от грехов, окунувшись в воды куллы[2]. Слышал бы ты, почтенный мулла, с каким презрением говорил он, что русская женщина, которую ты приютил в своём доме, не просто иноверка, а худшая из них – свинарка.
И кто, ты думаешь, присоединился к голосам Чопана и Абдуллы? Рыжий Гамзат. Он сказал: «А что будет, мусульмане, если следом за этой девкой пригонят приданое – стадо свиней?!»
Эфенди с Пулатом тоже недостойно вели себя. Они говорили, что ты выжил из ума, что принуждаешь старшего сына сойтись с этой нищей женщиной. Кто-то из молодых, кажется, сын заведующего фермой Сулеймана, попытался вступиться за тебя. Но эти старые волки зарычали на него и прогнали с годекана.
Я не встал на твою защиту. Не поднял голос против несправедливости и неверного суда. Не хватило сил. Да и какие силы могут быть у слепца? Мне надо особенно остерегаться злых людей. Каждый из них может обидеть меня. Прости меня, почтенный мулла. Прости моё слабодушие. И пусть Аллах отнимет язык мой, как отнял глаза, если из уст моих вылетело хоть одно лживое слово.
Амир-Ашраф долго сидел молча, понурив голову. Люди, к которым он был всю жизнь добр, кому прощал все их грехи, вдруг открылись для него с другой стороны.
Он не усомнился ни в одном слове муэдзина. Да и всё, что сказал ему Хаджа-Муса, он уже слышал от Зухры.
– Я верю тебе, – поднял наконец голову Амир-Ашраф. – Благодарю за то, что помог мне узнать, кто мои недруги. Да продлит Аллах твои мирные годы! Да будет тебе тепло от любящих сердец родных и близких! Пойдём, я провожу тебя. – Он встал, взял слепого муэдзина под руку.
Зухра, открыв мужу дверь, недовольно покачала головой:
– Где же ты так долго был? Опять на годекане засиделся? Еда остыла.
– Мало ли где я могу задержаться, – буркнул Амир-Ашраф, проходя в свою комнату. – А есть я не хочу.
Зухра удивлённо посмотрела ему вслед.
Вскоре пришёл Керим.
Зухра молча поставила перед сыном миску с творожными лепёшками.
– Отец спит уже? – спросил Керим.
– Нет ещё. Тоже только что явился. От еды отказался. Опять чем-то расстроен.
Керим быстро съел несколько лепёшек, густо смазанных сливочным маслом, и направился в комнату отца. Тихо открыл дверь.
– Отец, может, чаю выпьешь?
– Нет, сынок, ничего не хочу. Лучше спать лягу. Что-то голова у меня разболелась.
– Давай я принесу порошок от головной боли.
– Не надо. Ты же знаешь, что я не люблю порошки.
– Ну, тогда спокойной тебе ночи.
– И тебе, сынок, спокойной ночи.
Амир-Ашраф разделся, погасил свет, лёг в кровать.
Перед его глазами начали возникать одно за другим лица Гамзата, Чопана, Абдуллы, Пулата, Эфенди…
«О, великий Аллах, – зашептал Амир-Ашраф, – как жаль, что ты ущемляешь некоторых рабов Своих в разуме и тем самым способствуешь пробуждению зла в их слабых сердцах».
Нет, не жажда мести терзала чувствительную душу Амира-Ашрафа, а благородный гнев человека, который не позволяет не только словом, но даже намёком или взглядом унизить своё достоинство. Он знал, что не одни седоглавые прихожане, о которых рассказал Хаджи-Муса, но и другие аульчане осуждают его. Да что аульчане. Собственная жена и сын Селим не одобряют его поступка.
«Неужели они не понимают, что я совершаю доброе дело, что я пойду на всё, но не отступлюсь от своего намерения? Нет, я никому не позволю чернить моё имя! Я тоже устрою суд над потерявшими совесть греховодниками. Но не тайный, а открытый! Пусть знает весь аул истинное их лицо!..»
В этот день Амир-Ашраф встал, как всегда, рано. Быстро оделся, умылся и, не попив даже своего любимого калмыцкого чая, покинул дом. Но пошёл не в мечеть, а на южную окраину аула, где сакли, нависая друг над другом, поднимались к вершине горы.
У ворот одного из домов остановился, постучал в калитку палкой. Это был дом Кадыра – сельского глашатая.
На стук раннего гостя вышел сам хозяин. Увидев муллу, спросил любезно:
– Чем могу быть полезен, почтенный Амир-Ашраф?
– Услуга необременительная, брат мой Кадыр. Собери, пожалуйста, в мечеть верующих и неверующих мужчин, свободных от неотложных дел. Объяви, что мулла хочет сделать важное сообщение.
– Хорошо, – кивнул Кадыр.
Когда Амир-Ашраф ушёл, он поднялся на крышу своей сакли и во весь голос закричал:
– Внимание, люди! Слушайте меня! Почтенный наш мулла просит всех мужчин, свободных от неотложных дел и хвори, сейчас явиться в мечеть на сход! Им будет сделано важное сообщение! Внимание, люди!.. – Кадыр несколько раз повторил слово в слово сказанное.
Женщины тут же стали будить мужей, сыновей. Была пятница. В этот поминальный день все верующие, оставив будничные хлопоты, молились в мечети. Поминали усопших.
– Что случилось?
– Зачем мулле понадобился этот сход? – спрашивали друг друга встречные.
Вскоре мужчины, старые и молодые, гуськом потянулись к мечети.
Амир-Ашраф от глашатая Кадыра сразу же отправился в мечеть.
В это утро муэдзин Хаджи-Муса не поднялся на минарет – он понял, что его рассказ встревожил душу муллы и тот что-то затевает. Он так разволновался, что едва нашёл в себе силы пойти в мечеть.
Мечеть была переполнена. Белобородые старцы заняли места поближе к мулле. Остальные мужчины толпились позади них.
Когда Амир-Ашраф встал, в мечети сразу же воцарилась тишина.
– Хвала Аллаху, первому пророку Магомеду и всем святым апостолам и ангелам, не щадящим себя для дел Господних, – заговорил тихо Амир-Ашраф. – Мир и покой рабам Божьим, избравшим стезю веры, правды и добродетели. Я призвал вас, собратьев своих, на открытый суд, не в силах дождаться дня, когда Аллах сотворит Свой самый высший справедливый суд.
Каждый из вас, кто присутствует здесь, и те, кто отсутствуют, убелённые сединами и молодые, знают меня, так же как я каждого, ибо жизнь наша протекает на виду друг друга. Все вы знаете, что я был верным слугой Аллаха и жертвовал собой во имя спасения душ заблудших. До сих пор мне казалось, что несу я честь свою и совесть по нелёгкому пути жизни незапятнанной. Тому же учил я своих близких и всех, кто нуждался в таком поучении. Я люблю свой народ, терпимо отношусь к иноверцам, милосерден ко всем живым тварям, ибо к этому меня призывали мудрейшие. Помню, в годы отрочества я часто задумывался: зачем Аллах сотворил неверных и заселил ими бескрайние просторы Вселенной? Этот вопрос вставал передо мною не раз, и потому, будучи муталимом[3], я задал его почтенному алиму – богослову. И вот что услышал из его уст:
«Когда род людской, берущий начало от Адама и Евы, размножился и достиг умственного совершенства и возвышения над тварями, на Земле начался хаос. Человек, обуреваемый страстью познаний, стал стремиться к проникновению в небеса, в недра земные, в глубины водные. Стал превращать в рабов себе подобных. Толпы людей, словно чёрные тучи, носились по земле, превратив её в арену грабежа, насилий и разврата. Научившись изготовлять одуряющие напитки, затуманивающие сознание, люди денно и нощно предавались оргиям. На захваченных землях, употребляя вместо сосудов черепа врагов своих, а вместо вилок – их источённые кости, они устраивали среди крови и дыма позорные пиры.
Видя, что чёрная тьма начинает окутывать землю, а злой дух править миром, Аллах разделил человечество на два лагеря. Людей, любящих труд праведный, чистых душой, он сделал правоверными. А предающихся разбою, блуду и лени – проклял и назвал их гяурами – неверными. И возликовали правоверные, и предались бесконечному плачу те из неверных, которые случайно оказались в лагере проклятых. Тогда Аллах послал к тем и другим своего Пророка, который стал перед ними и сказал: «Вы, правоверные, не ликуйте прежде времени, ибо есть и будут среди вас слабые грешники. А вы, неверные, не предавайтесь горю и отчаянию, если идёте путём Божьим. На страшном суде, – Амир-Ашраф указал рукой на небо, – Аллах положит на чашу весов ваши земные деяния и скажет, кто из вас правоверный, а кто гяур. И тому, кто был чист душой, кто был разумом выше гадов, зверей, животных и всяких тварей, нетрудно будет пройти по тонкому, как лезвие ножа, мосту, переброшенному через ад к чертогам Рая».
– С того дня, как я услышал рассказ почтенного алима, я стал одинаково относиться и к неверным, и к правоверным, потому что среди тех и других есть истинные люди с чистой душой и чистыми помыслами и есть погрязшие в грехах, способные причинить зло ближнему.
В доказательство справедливости слов моего учителя я приведу примеры, охарактеризовав некоторых мусульман. Возьмём Чопана. – Амир-Ашраф кивнул в сторону короткошеего, с багровым, одутловатым лицом старика. – Ему ли обвинять кого-либо в неблаговидных деяниях, не посмотрев на себя?
Чопан тут же встрепенулся, покраснел и испуганными глазами уставился на Амира-Ашрафа.
– Смотрите, чем не раб Аллаха? Тихий, с вкрадчивым, елейным голосом и вроде бы не лишённый стыда, – продолжал Амир-Ашраф. – Чопан возмущается тем, что я привел в свой дом иноверку, русскую женщину, считая её недостойной нашего общества, потому что она работала свинаркой. А я хочу этому правоверному мусульманину напомнить тяжёлые годы войны. Помнишь, Чопан, когда в твою яму, вырытую тобой и замаскированную на приусадебном участке, засеянном кукурузой, осенью попал кабан? Тогда ты своими руками разделал тушу проклятого Аллахом и запрещенного учением Пророка животного. Мясо продал русскому человеку из города. Но не всё. Часть оставил себе. И тайно от людей, глубокой ночью, жарил из свинины шашлык и ел. Ты, наверное, думал, что люди не знают об этом? Но как было не догадаться тем, кто месяцами не брал в рот свежего мяса, кому не изменило обоняние и кто мог ещё отличать запах жареного мяса от кизячного дыма? А ведь в те дни в ауле никто не резал ни бычка, ни барана. Но когда тайна твоего греха разнеслась по аулу и дошла до меня, я не заставил тебя окунуться в куллу, чтобы смыть грех, прежде чем переступить порог мечети. Больше того, я запретил аульчанам говорить об этом, пожалев тебя как слабого, не устоявшего перед соблазном – силой голода.
Амир-Ашраф перевёл дыхание и продолжил свою обвинительную речь:
– Теперь я хочу обратить ваше внимание на Абдуллу…
Все присутствующие тут же повернули головы в ту сторону, где сидел худощавый старик, с белой бородкой клинышком, коротко подстриженными усами и немного перекошенным лицом.
– Ты, Абдулла, не обижайся за правду, но я вынужден сказать при всём народе, что ты лишь на склоне лет приобщился к истинным мусульманам. В царские времена, когда был молод и здоров, ты многие годы жил в городе. И там вёл себя не как скромный горожанин-труженик, а как бездельник-забулдыга. Женился на одной из несчастных дочерей христиан. И, несмотря на то что она одарила тебя тремя детьми, продолжал предаваться блуду и пьянству, унижая своё достоинство и причиняя ущерб семье. Ты допился до того, что тебя видели валяющимся на земле у дверей духана. Это проклятое Аллахом питьё довело тебя до того, что у тебя отнялась правая рука. Тогда ты, немощный, вернулся к очагу предков и связал свою судьбу с убогой, глухой, одинокой родственницей, которая ухаживала за тобой. И, лишь дойдя до такого состояния, ты вспомнил Аллаха и предался молитвам во избежание очередной кары Того, кто карает беспощадно. Я не осуждал тебя, как другие, я помогал тебе искать утешение в молитвах. Так почему же ты осуждаешь меня за то, что я поделился кровом и хлебом с женщиной, подарившей мне внука-первенца?..
Амир-Ашраф взял медный кувшин, сделал несколько глотков, отдышался и посмотрел на длинноусого старика, выпученные глаза которого тут же забегали по сторонам, не выдержав его пронзительного взгляда.
– Дошёл и твой черёд, Гамзат. И ты не безгрешен. Осуждаешь меня. А тебе ли вести речь о соблюдении нравственности?.. Как же ты забыл о своём поведении в недавние времена? Хотя голова твоя уже была убелена сединой и, казалось бы, должна была быть умудрена знаниями жизни, ты продолжал грешить. Ты, человек, давно связанный с женой обетом супружеской верности, в первые же дни войны, когда мужчины моложе тебя отпустили траурные бороды, сбрил свою бородку, усы и, как старый кочет, начал поглядывать на молодок, годных тебе в дочери. И не просто поглядывал, а под покровом тьмы проникал в сакли вдов и предавался блуду. И это в дни всенародной скорби!.. И ещё я хочу напомнить тебе тот вечер, когда застал тебя в кунацкой жены одного воина. Пришёл я тогда не по своей воле, а по слёзной просьбе матери солдата, которая хотела уберечь от позора очаг своего сына. Я запретил той несчастной женщине говорить кому-либо о поведении падшей невестки и тебе пригрозил, что если и дальше будешь заниматься прелюбодеянием, то предам открытому суду общества. И вот теперь я делаю это. Я правду изрекаю или нет? Можешь возразить?..
Рыжий Гамзат молчал, опустив голову.
Амир-Ашраф перевёл взгляд на двух хорошо одетых стариков, важных на вид. Они занимали места в первом ряду. Взгляд муллы не смутил ни Пулата – бывшего бухгалтера колхоза, ни Эфенди – отставленного от дел председателя колхоза. Это были отцы семейств, чьих очагов не коснулась нужда даже во время войны.
– Плохо, когда нашим детям и внукам приходится стыдиться за непристойные дела родительские, – вздохнув, заговорил снова Амир-Ашраф. – Но во сто крат хуже, когда родители делают вид, что не несут никакой ответственности за поступки чад своих.
– Что ты хочешь этим сказать? – выкрикнул Пулат.
– То, что я хочу сказать, ты услышишь сейчас, – спокойно ответил Амир-Ашраф.
Эфенди тоже хотел было подать голос, но прихожане зашумели:
– Тише!
– Не перебивайте!
– Дайте мулле возможность высказаться!
Когда шум утих, Амир-Ашраф заговорил снова:
– Помните начало последней войны? Все, кто мог держать оружие, ушли на фронт. Только двое из молодых – ваши сыновья – были оставлены по брони. И никто не желал их отправки на фронт. Люди рады были тому, что хоть двое из молодых мужчин оставлены в ауле. Быть может, кто-нибудь из несчастных матерей и завидовал, но без зла. Не только мужчин, ни одного приличного коня не осталось в ауле. Но мы не жалели ничего, всё готовы были отдать ради Победы. И отдавали. Отдавали ценности, деньги, ковры, сбрую, сёдла, одежду и съестные припасы. В фонд обороны пошли и старинные ковры нашей мечети. Народ отдавал всё. А вы и ваши сыновья разве были честны до конца? Отвечу сам на свой вопрос – нет!
Не в твоём ли доме, Пулат, до сих пор висит один из турецких ковров, специально вытканный для мечети? Уж кто-кто, а я-то помню каждый из тех ковров.
Не твоя ли невестка, уважаемый Эфенди, продавала пожертвованные для фронта черкесские сёдла с серебряной оправой в соседнем ауле в базарный день? Не в ваших ли погребах остались мешки с вяленой бараниной и фруктами, которые народ собрал для посылок фронтовикам?.. К великому сожалению, некоторые люди думают, что, раз им доверили хоть маленькую власть, значит, они умнее других, а потому и преград для их позорных действий не существует… Они забывают, что от людских глаз и ушей нельзя скрыть свои грязные дела. Да, до вас в те дни не дошёл ропот людской, и вы подумали, что никто ничего не узнал.
Но вы ошиблись. Многие из простых колхозниц обратились ко мне за советом: какие меры предпринять против вас и сынков ваших? Они хотели ехать в райцентр с жалобой, но я удержал их, сказав: «Не делайте этого. Кто же будет пахать землю, кормить аул?.. Все ведь мужчины на фронте…» И женщины послушались меня.
Но почему же вы, люди состоятельные, не ущемлённые Аллахом, таите в сердцах своих ничем не объяснимое зло против меня, против моей невестки, которая не сделала вам ничего плохого? Почему вы осуждаете труд свинарки? Если Аллаху было угодно создать свинью, значит, оно нужно людям. Мы едим мясо баранов, коров и буйволов, а они едят свинину. Какой же грех в этом? Вот Гамзат сказал, как бы, мол, русская невестка не принесла вместо приданого в мой дом поросят. Конечно, всякий расчётливый человек предпочтёт, как ты, Пулат, привести в дом невестку с тремя буйволами. Я же решил довольствоваться нищетой своей невестки и считаю, что до этого никому не должно быть дела…
Амир-Ашраф помолчал, теребя седую бороду, потом снова заговорил:
– Все вы, названные мной, заметно преобразились за последние годы. На каждом из вас рубаха из тонкого сукна и дорогая папаха из бухарского каракуля. Но это внешне. А душа осталась такой же, какой была…
– Почтенный мулла, не слишком ли ты много позволяешь себе, учиняя нам позорное судилище? – выкрикнул возмущённый Пулат.
– Нет, – спокойно ответил Амир-Ашраф, – я не сужу, а только пытаюсь оправдаться перед людьми, сравнивая некоторые грехи ваши с тем деянием, которое совершил я, не спросив никого. А судьёй вашим пусть будет наш народ и сам Аллах!
– В чём же ты ещё можешь обвинить нас, божий золотник? – с ухмылкой спросил Эфенди.
– Могу, если хотите, обвинить вас и ещё кое в чём.
– В чём же конкретно? – крикнул Пулат.
– А хотя бы в том, что вы, приобщившись к служителям мечети, обираете сирот и вдов.
– Объясни, как мы обираем людей?
– А так. Прочитав возле умершего или у могилы заупокойную молитву, требуете оплаты… Среди прихожан прошел ропот.
– Мы не требуем и не просим, но и не отказываемся, если дают, – сказал Эфенди.
– Да, конечно, сами вы не просите, но зато завели приспешников, которые подсказывают людям, что каждого из вас надобно отблагодарить, и не только словами.
Каждому из вас преподносят узел с материей, сахар, рис, печенье и конфеты. Кто ввёл в нашем ауле такой обычай? Насколько мне помнится, во времена наших отцов и дедов такого не было…
Вот ты, Эфенди, у вдовы покойного Дауда за семь дней коротких молитв у свежей могилы выгреб из кармана семьдесят рублей – по десять рублей в день. На каком основании?
– Но ведь такой порядок заведён муллой и муфтием городской мечети, – пожал недоумённо плечами Эфенди.