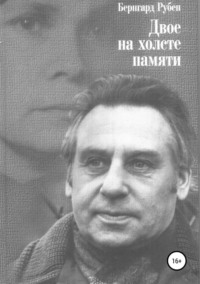
Двое на холсте памяти
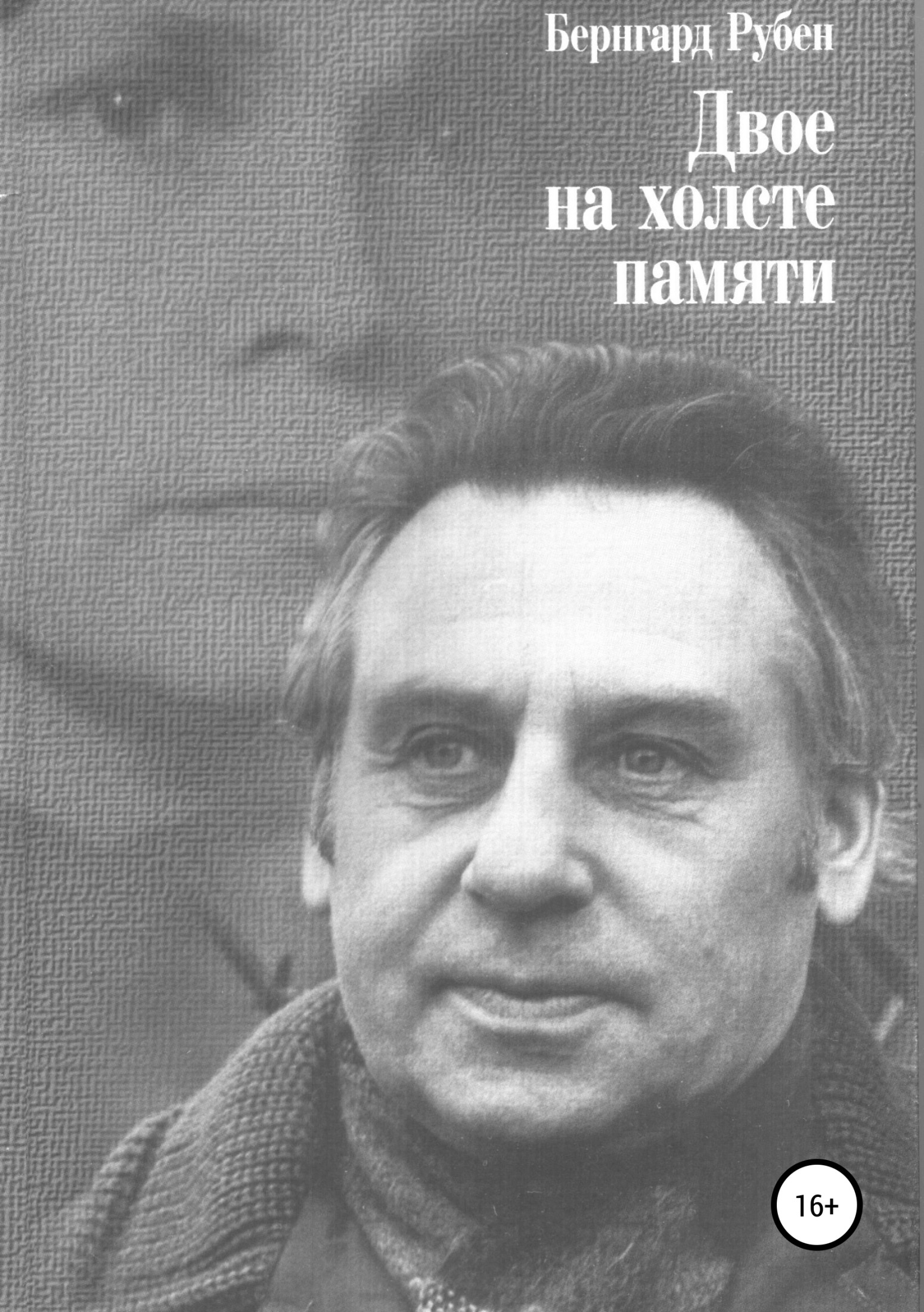
Часть первая. Две души
I
Похороны Дуни прошли у Кортина на том же перенапряжении, с которым он действовал весь этот последний год ее жизни. Год начался новой вспышкой болезни, приведшей ранней весной к третьей операции, продолжился затем одним курсом химиотерапии, летом другим, а закончился последними месяцами борьбы осенью и зимой, когда он с одержимостью веры и непризнания какой-либо силы сверх его воли и надежды бился спасти ее, вынести из этого смыкавшегося смертного кольца до того, как оно сцепится своими концами-захватами. И когда все усилия оборвались смертью, его пронзило самообвинение: не успел, не сумел, упустил. Сам упустил последний шанс, уже имея в руках спасительное средство.
После поминок он отправился к себе домой, оставив в квартире Дуни немногих ее родственников, прилетевших на похороны из дальних мест, – вдову недавно умершего брата, который был на шесть лет младше Дуни и за судьбу которого она переживала всю жизнь, и самого младшего брата по второму позднему отцовскому браку, молодого совсем человека. Прилетал также один из племянников, студент-медик, но уже улетел обратно в свой институт. А сам восьмидесятилетний Дунин отец не двинулся в эту скорбную дорогу. Что до московских родственников, то отношения с ними в последние годы у нее почти прервались, и никто из них на похоронах, как и в течение всей болезни, не появился.
Оказавшись один, Кортин почувствовал, что обессилен и опустошен. Последний долг был отдан, ничто больше не могло иметь существенного значения. Но дела и обязанности все еще тянулись за ним. Необходимо было распорядиться ее вещами, оделив прежде всего прибывших родственников, – он видел, что они, не говоря о том, ожидали такого полагавшегося распределения. Еще надлежало ему подготовиться к скорой сдаче ее квартиры, избегая угрожающих требований и предупреждений. И по этой причине также следовало побыстрее раскассировать ее имущество.
Имущество Дуни, кроме денежного пая в жилищном кооперативе, составляли только домашние вещи – недорогая мебель и посуда, скромный гардероб. Все это были нужные, в большинстве своем добротные, милые вещи, приобретавшиеся не с маху, на весьма небогатые средства, но непременно по вкусу, с прикидкой и выбором; многие из них служили ей долгий срок и сделались привычными спутниками ее жизни, приняв в себя облик самой хозяйки. Так что перебирание ее вещей было для Кортина мучительным. С него хватило одного вечера после поминок. Ноги больше не понесли его туда, он не мог видеть ни этих вещей без Дуни, ни ее родственников, ни выступать там обходительным хозяином и отстраненно подумал, что пусть родственники сами делают в квартире все, что им надобно.
Оставшись у себя дома, он схватился за продолжение своего дневника, записи в котором были прерваны похоронами. Он записал:
«21 декабря 1978 года, четверг, 9 утра, Сокольники.
Прошли уже и похороны, и началось какое-то пустое, смутное и постыдное существование, постыдное оттого, что на этой земле мы живем в окружении вещей, которые нам нужны, приятны, удобны или просто необходимы, и людей, которых далеко не всегда мы выбираем сами, но вынуждены вступать с ними в те или иные отношения…
Восходит солнце, метет снег, мороз, и здешняя жизнь переваливается по земной поверхности, а Дуня лежит под землей, без неба, солнца, снега. Но это тело ее лежит там, а душа? Где она, и как теперь она обитает, в каком окружении, и каков у них т а м порядок? А во мне – безгласный крик, сплошная боль без явной физической боли, заполнившие пустоту в душе, и страшный в такую пору и совсем нефилософский вопрос – «Зачем все это?» Только одно дело кажется еще нужным и непременным – записать, все записать подробно и точно. В этих записях сходится для меня и прошлое, и нынешняя моя обязанность, и возможность будущего. Я понимал, что мне будет очень тяжело, но разве мы можем представить себе все то, что и как произойдет с нами?!
Буду писать по порядку, по совершившемуся…»
Когда-то, в молодости, задаваться таким вопросом – «Зачем все это?» – было ему интересно: отвлеченно-философская игра ума, обращенная к высшему Разуму, и ты ничего не проигрываешь, не получив точного ответа, поскольку твоя жизнь полна и увлекательна сама по себе. Но вот он лежал во прахе и беспощадно сознавал свое поражение, свою вину, и вопрос этот превращался в утверждение тщеты жизни, прежде всего его собственной со многими в ней ошибками и прегрешениями. И тем не менее, или именно потому, он упрямо стремился закрепить на бумаге все происшедшее.
Он исписал шесть страниц в толстой тетради с обложкой из коленкора, но никакого душевного облегчения этот выплеск ему не принес. Он вдруг с тревогой ощутил, что теряет в себе некую внутреннюю опору, незримую основу повседневной устойчивости в этом мире. И поспешно схватился что-то чинить, налаживать, убирать в своей квартире, запущенной за те несколько месяцев, что он почти не бывал здесь, – стараясь отвлечься физическим трудом так же, как к этому прибегала Дуня для обретения душевного равновесия. Но он не мог найти себе места. Его крутило все сильнее и сильнее. Он пробыл в таком состоянии весь день, ничего не ел, дома было пусто, только чаю он выпил с остатками хлеба. Под вечер, чтобы как-то разойтись, уйти от самого себя, он решил выглянуть на люди и поехал в Дом журналистов на проводившееся в этот вечер заседание секции, к которой был прикреплен. Впоследствии знакомая дама сказала ему, что вид у него тогда был безумный. А ему казалось, что держался он неплохо. Он даже зашел потом в здешний ресторан, выстояв порядочно времени у дверей в ожидании места, поел, наконец, чего-то вкусного и горячего, выпил немного коньяку, с кем-то вежливо переглянулся. И в то же время он отчетливо понимал, что все это у него лишь внешнее проявление жизни, лишь обозначение ее, что на самом деле он уже отделен от окружающих людей замкнувшим его, но невидимым для них колпаком, что он тяжело или, скорее всего, смертельно ранен, только никто этого не замечает, потому что нет крови и он держится на ногах.
Но ему пришлось тогда же вновь мобилизоваться. Пока он сидел в холодном кинозале, где проходило заседание секции, и слушал выступление популярного исторического писателя, а вслед за ним известного публициста, и озирался по сторонам, пытаясь определить – видят или не видят окружающие, что с ним творится, в Дунину квартиру вторглась дама-комендант тамошнего жилищного кооператива. Она взяла в оборот Дунину невестку, выясняя, кто, откуда и на каком основании здесь находится, после чего с тем же административным нахрапом объявила, что квартира умершей, где никто более не прописан, подлежит опечатанию, а все вещи должны быть перенесены в подвал. Перепуганная провинциальная родственница, в панике от столичных порядков, бросилась звонить Кортину, но дозвонилась только в полночь, когда он воротился из своего Домжура. Он живо представил себе всю эту сцену, успокоил ее, даже поиронизировал над ее растерянностью перед московским хамьем и велел без него вообще не пускать никого на порог, пообещав назавтра обязательно приехать. Допущенная наглость возмутила его.
Утром ему позвонила Дунина соседка по лестничной площадке, молодая женщина-врач, которая из жильцов дома была наиболее близка с Дуней. К ней тоже заходила, справляясь, комендант, и она обстоятельно разъяснила этой, как она выразилась, самой крикливой бабе, в каких отношениях состояли Никольская и Кортин, и что он за человек. Оказалось, что на квартиру Дуни уже объявилось несколько претендентов среди пайщиков, и прежде, чем вступить в борьбу между собой, они общим фронтом решили обезопасить себя от посягательств кого-либо из родственников или близких прежней владелицы. В том, что такие посягательства со стороны возникнут, в кооперативе не сомневались, и коменданту была дана команда принять предупредительные меры. Давал команду заместитель председателя, отставник-полковник. Выслушав Дунину соседку, Кортин подумал о том, что развернулась обычная по нынешним временам картинка их жизни, где заведомо считается, что все кругом хапуны и хищники, одним миром мазаны, и нечего церемониться при защите своих интересов.
Однако ведь и то была правда, что отец Дуни звонил ему из своего прикавказского районного городка насчет того, чтобы передать эту квартиру в столице его сыну. Кортин сразу же внес ясность, что никаких законных прав для этого нет, и помочь тут он ничем не может. Да старик и сам это понимал, но возлагал надежды на своего брата в Москве, который немало лет сопровождал влиятельных лиц на их барской охоте. А Кортина он просил лишь задержаться со сдачей квартиры. Кортину претили всякие махинации и хотелось отсечь любую суету над могилой Дуни. Но и сказать об этом ее отцу он не мог – в память о ней; к тому же по ходу разговора он догадался, что звонил старик не по собственному побуждению, а под давлением своей жены, сына и, конечно, невестки, вертевшей его сыном и вмиг нацелившейся на переезд в столицу. Его сын, прибыв на похороны, уже провел свои родственные консультации, не оправдавшие, как и предвидел Кортин, их семейных надежд. Ибо в кооперативном доме осуществить «телефонное право» гораздо труднее, нежели в государственном, и крупные чиновники, получающие все блага от своего государства, в такое дело без крайней для них самих надобности не полезут, мелкие – тем паче. А тут вообще речь шла о каких-то иногородних жителях, не имеющих московской прописки и даже не работающих в Москве. Так что их загоревшаяся мечта быстро погасла, не вызвав никаких практических действий. И Кортин, при всем неприятии существовавших крепостнических порядков, был доволен, что вокруг квартиры Дуни не завязалась эта тяжба, в которую втянули бы и его.
Весь тот день, внутренне подгоняемый требованием освободить квартиру, он старался как-то побережней распорядиться первым делом носильными вещами Дуни, какие не намечал к продаже. Ему все хотелось получше устроить ее платьица, костюмчики, кофточки, пальто, отдать их близким людям, в хорошие руки, как передают живые существа. Но оказалось, что эти вещи, вполне пригодные, почти новые, почему-то никому не нужны – ни родственникам, ни ее подругам, ни даже явно бедной и несчастной соседке, жившей этажом выше, которая часто заходила к Дуне делиться своими семейными горестями. Все принимали независимый вид и вежливо отказывались. Вероятно, имелись причины, которые он не учитывал, исходя только из своего отношения к вещам, соприкасавшимся с его Дуней.
Вечером он спустился из ее квартиры в такую же квартиру на нижнем этаже, которую занимало правление кооператива для своих административных нужд. Он заранее позвонил туда по телефону и имел при себе паспорт, журналистский билет, нотариально оформленное завещание. Представившись председателю, он сначала сухо осведомился, известно ли тому о требованиях коменданта и считает ли он их законными. Председатель дипломатично промолчал – рядом стоял, по-видимому, его заместитель, ретивый отставник. Кортин протянул председателю свои документы и сказал, что квартира будет сдана только после того, как он упакует и перевезет вещи покойной, а кооператив в свою очередь выплатит ему весь денежный пай, как это следует по завещанию. Председатель лишь мельком, не разворачивая, взглянул на поданные ему бумаги, тут же вернул их назад, выказывая тем доверие к Кортину и свою собственную интеллигентность. Конечно, он все знал о вчерашнем происшествии и получил информацию о Кортине.
– Не придавайте значения данному случаю, мы уже поговорили об этом между собой, – сказал он миролюбиво, чуть оглянувшись на стоявшего рядом с ним заместителя. – Мы вас не торопим. Общее собрание назначено у нас на январь, тогда и определится новый владелец квартиры, и кооператив сможет произвести с вами расчет.
На прямое извинение его интеллигентности не хватило, поступал в общепринятых нынче рамках: начальство не ошибается и не кается, а он, как-никак, был начальник, председатель. Кортин оглядел комнату, в которой они находились. В стороне, у стены с конторским шкафом стояла толстая приземистая женщина, рост которой, как он прикинул, равнялся ее поперечнику. Нетрудно было догадаться, что она и есть комендант. Из вчерашнего волкодава она превратилась в дворнягу, отогнанную хозяином к конуре. А в Кортине уже ослабел заряд собранности, и он с внезапным облегчением, даже отрадой подумал о том, что Дунина обитель, их Замок, пробудет еще некоторый срок нетронутой, как при ней…
Дунина невестка ожидала его. Она улетала назавтра в свой город на Волге, а младший Никольский скоропалительно отбыл домой в прикавказский южный край еще вчера. В ответ на ее вопросительно-пугливый взгляд Кортин только махнул рукой, показывая, что все поставлено на свое место. В этот вечер они вдвоем еще раз пересмотрели Дунины вещи. Он старался оделить ее всем, что могло быть ей нужным, поскольку она осталась без мужа с двумя сыновьями, которых, хоть им и было за двадцать, все еще предстояло поддерживать в жизни. И помня о том, что Дуня любила своих племянников, особенно младшего, работавшего после службы в армии рабочим на заводе и очень похожего на отца, ее покойного брата.
Вообще над всей процедурой распределения вещей между родственниками как бы витал образ его Дуни, их Дины, при всем том, что отношения между двумя семьями, волжской и прикавказской, оказались натянутыми. Кортину пришлось лишь раз-другой сказать «нет», когда дело касалось наиболее памятных вещей, купленных им для Дуни по ее желанию или подаренных их близкими друзьями и доставлявших ей особенное удовольствие. Но в основном он занимался книгами – на его взгляд именно книги представляли главную ценность, тем более теперь, когда все так дико вывернулось, что купить книги настоящих писателей в обычном книжном магазине стало совсем невозможно. Кортин отобрал родственникам две большущие стопки, лишь бы смогли увезти. Что до кооперативного пая, то родственники давно знали от самой Дуни, что квартира эта строилась на деньги Кортина, и никаких трений тут также не возникло. Но они не знали, как трудно было ему в ту пору их знакомства уговорить ее взять эти деньги – в долг, разумеется, только в долг, как бы на длительное хранение, в благодеяние для него же, шалопая, дабы уберечь его гонорарные деньги от легкомысленной растраты. Для нее всегда были важны нормы приличия, и держалась она независимо и строго…
Проводив наутро невестку Дуни, он вернулся к себе домой в Сокольники. И опять почувствовал опустошенность и обессиленность. Все дела с Дуниными родственниками были закончены. Необходимость срочных сборов, перевозки вещей и сдачи квартиры также отпала на месяц. Завтра исполнялось д е в я т ь дней – самая первая отметка, еще не дата, по Дуне, но и тут из предварительных телефонных переговоров выходило, что сбора их компании в этот день не получается, почти у каждого оказывались какие-то важные причины, мешавшие прийти. Наверное, слишком мало времени прошло с горестных и высоких по душевному взлету поминок, не образовалось еще вновь должного настроения для повторного застолья.
Было немного после полудня. Он в разбитости лег на тахту и принялся раскручивать обратно всю ленту событий этого погибельного для них двоих года, приколачивая себя к ней во всех жгучих точках, где он считал, что сделал не то, не так, ошибся, не добился, упустил спасение. К вечеру, когда неотвратимо проползавшая через воспаленное сознание эта протокольная лента, наконец, застопорилась, и терзания стали отпускать его, он позвонил писателю Лозовому, давнему и доброму знакомому Дуни. В бытность свою редактором в Военном издательстве она отстояла честную книгу Лозового о войне, а перед тем помогала ему в отборе материала и настойчиво торопила со сдачей рукописи, словно предчувствуя грядущие перемены. Эту книгу его очерков, дневников и рассказов о Действующем флоте чиновное начальство сразу же нацелилось зарубить, едва обозначился излет достопамятной о т т е п е л и, но из-за стойкости редактора Никольской успело лишь резко уменьшить тираж при выпуске. Лозовой относился к ней с глубокой сердечностью и, выразив Евдокии Андреевне в дарственной надписи на книге свое уважение и любовь, подписался – «от единомышленника». Он был настоящий друг. Это с его помощью было добыто для нее в «закрытой» правительственной аптеке дефицитное и дорогостоящее заграничное лекарство, державшееся врачами в тайне от массы рядовых онкологических больных. Об этом лекарстве Кортин узнал случайно всего за неделю до ее смерти. И Лозовой, сам не имевший никаких властительных должностей, званий и соответственных привилегий, поднял на ноги наиболее влиятельных своих товарищей-писателей из фронтовиков и через одного из них, депутата и Героя Социалистического Труда, добился получения того препарата, считавшегося исцелительным при раковых опухолях. Но препарат так и остался не примененным, и Кортин обвинял теперь в этом только себя.
Он звонил Лозовому, толкаемый вдруг подступившей потребностью человеческого общения, но имея и конкретный повод – вернуть дефицитное и дорогостоящее лекарство, полученное им к тому же бесплатно по рецепту для онкологических больных. И еще надо было уточнить, не собирается ли Лозовой прийти на д е в я т ь д н е й. Лозовой тотчас ответил, что помнит об этом дне, но простудился, разболелся и сам хотел позвонить Кортину завтра. Взять обратно лекарство, которое Кортин считал своим долгом вернуть именно ему, он наотрез отказался. Кортин, волнуясь, заговорил с ним о Дуне и о его книгах с дарственными надписями ей, и о том еще, что все время думает о своей вине – что он упустил возможности ее спасти. Будто ударенный током, Лозовой воскликнул: «Боже вас упаси, не думайте об этом! Так вы загубите свою жизнь, я знаю это по себе…»
Их сумбурный разговор не принес Кортину облегчения в его приступе одиночества – то был отклик человека доброго, порядочного, но знакомого ему лишь мельком, через Дуню. Звонить следовало собственным друзьям, с ними отводить душу. Но как раз это было для него больнее одиночества – обращаться самому за помощью к близким людям.
После разговора с Лозовым у него остался осадок недовольства собой, будто он пробовал укрепить их знакомство, используя память о Дуне. И еще получалось, что, по всей видимости, д е в я т ь д н е й он будет отмечать один.
Получилось, однако, иначе. Когда он сидел с утра у себя в Сокольниках за записями в дневник, продвигая свою летопись, раздалось несколько телефонных звонков. Кое-кто все же собрался прийти на эти д е в я т ь д н е й. Кортин назначил им Измайлово, куда намеревался ехать вечером сам. Но теперь поехал днем, чтобы подготовить хотя бы скромный стол и на скорую руку прибрать квартиру. По дороге, как и рассчитывал, он купил без затруднений сыр, яблоки, зашел в Дунину булочную, где из сортов белого хлеба застал длинный тонкий батон, который она наиболее жаловала, потом еще раз выходил за водкой и сухим вином и разжился вдобавок ветчиной – «так называемой ветчиной», как говорили они с Дуней, но к которой все уже, на удивление скоро, привыкли, будто и не было никогда настоящей. Кортин считал, что из мяса, шедшего на килограмм прежней колбасы, делается, наверное, килограммов десять нынешней, «брежневской», и покупателям, помимо приспособления к ее новому вкусу, остается только надеяться, что вкладываемые заменители нейтральны для здоровья. Но Дуня на это не надеялась, напротив, была убеждена в обратном. И они почти не покупали колбасных изделий, сосисок и сарделек. Однако сейчас он обрадовался этой ветчине и удивился, что не было очереди, – везде, во всех продуктовых магазинах стояли очереди и прежде всего за мясом. Видимо, он попал в удачный момент. А, может, и Дуньчик подворожила, облегчила его хлопоты…
В Замке тоже имелся небольшой припас – квашеная капуста, заготовленная всего месяц назад по просьбе Дуни ее подругами, селедка и немного красной рыбы, которую он совсем недавно «закосил» для нее в центре города в специализированном буфете, торговавшем такими вот деликатесными бутербродами. «Закосить» – это было слово, взятое ими на вооружение из повести Солженицына о заключенных-лагерниках и употреблявшееся между ним и Дуней, подобно тем зекам, в случае наиболее удачных приобретений сверх обычной скудости. Таким образом, отварив картошки, можно было вполне сытно накормить гостей. А к чаю были куплены в булочной сухие ореховые печенья, тоже повезло достать.
На этот раз было не людно. Поддержали его в основном мужчины из их компании. Пришел Лазарь Мильчин, специалист по прикладной кибернетике, работавший в научно-исследовательском институте культуры. Этот Мильчин являлся у них главным источником информации: он регулярно слушал иностранное радио, состоял приятелем-оруженосцем при знаменитом поэте, часто выезжавшим за границу, был знаком кое с кем из известных ученых, и от них также узнавал немало интересного. Его вообще неудержимо влекло к знаменитостям. Кортин и Дуня между собой называли его «Грюндик» – по марке имевшегося у него первоклассного немецкого магнитофона, который он всегда приносил с собой на их вечера, занимая своими записями большую часть времени. Да они и собирались зачастую именно потому, что у Лазаря появлялись какие-либо новые записи. К тому же и домашний радиоприемник у него был оснащен дополнительным диапазоном коротких волн, отсутствующих в отечественных аппаратах, и он беспрепятственно слушал передачи «вражеских голосов» на русском языке, яростно забиваемых глушилками на всех общедоступных волнах. «Голос социализма», – говорила Дуня, когда Кортин безуспешно пытался отыскать какую-нибудь брешь в сплошном гудении и услышать «Голос Америки» или английскую Би-би-си.
Еще пришел Леонид Сахницкий, тоже технарь, военный инженер, давний товарищ Мильчина. Прибежала также Нина Григорьевна Резникова, жившая неподалеку в Измайлове, самая практичная и активная из Дуниных подруг. Она успевала везде побывать, все посмотреть, послушать, прочесть, и Кортин не без иронии высказывал Дуне свое сомнение в возможности добротно переварить такое обилие духовной пищи, какое она заглатывала. А уже в середине вечера зашла та самая соседка по лестничной площадке, звонившая Кортину, молодая женщина-врач, которую Дуня всегда приветливо называла Верочкой.
Сев за стол и помянув Дину (Авдотьей, Дуней ее звал только Кортин), они заговорили потом о всяких событиях в стране и за рубежом – об известном дирижере, оставшемся на Западе после европейских гастролей и сделавшимся по официальной терминологии «невозвращенцем», о только что опубликованном в «Новом мире» романе из деревенской жизни, по которому отчетливо прослеживалось, что ничего хорошего в стране при господствующей системе и дальше ожидать нечего, о репрессивных мерах властей, применяемых к инакомыслящим – «диссидентам» – везде, где они открыто заявляют о себе. Все это были разговоры, в которых Дуня приняла бы заинтересованное участие, притом что сама она, как обычно, больше бы слушала, нежели говорила. Это были е е разговоры, но велись они уже без нее и, что болезненно воспринимал Кортин, без той скорбной струны, которая так высоко звенела на похоронах и поминках. Ему даже казалось, что на сей раз его Дуня была для пришедших всего лишь предлогом, чтобы пообщаться, обменяться новостями.
Лазарь приволок, не поленился, огромный том лучших фотографий американского журнала «Лайф» за много лет, изданный в Штатах и привезенный оттуда его знаменитым поэтом, и все с интересом листали этот том и обменивались впечатлениями, а Лазарь выглядел в тот момент главным именинником. Соседка Верочка, никогда ранее с ними не застольничавшая, решилась тоже внести свой вклад и принесла из дому фотографию с нашумевшей, но не выставлявшейся в СССР картины Глазунова «ХХ век», где собирательный лик всего столетия был представлен в лицах людей его определивших, в том числе Ленина и Солженицына. И все живо принялись узнавать те лица, крамольно собранные художником в свою картину-пантеон. Крамольность была и в этом конкретном сочетании, и в присутствии на полотне, кроме изгнанного из страны Солженицына, других давно поносимых фигур, как царь Николай II, Троцкий. Но главное, конечно, заключалось в самом замысле картины, повествующей о порушении в России религии, революционных катастрофах в мире, о захватившей людей безнравственности и единственно возможном пути спасения, олицетворенном в фигуре Христа над всем этим земным Содомом. Кортин видел и этот публицистический замысел, и умысел художника в подборе и трактовке лиц. И принял участие в обсуждении картины. Но в то же время он никак не мог примириться с тем, что печаль по Дуне была напрочь оттеснена всеми этими будоражливыми интересами и д е -в я т ь д н е й превращались в обычные их посиделки. Он сдерживал себя, чтоб не нарушать образовавшегося течения вечера, понимая, что для всех других, пришедших сюда, жизнь продолжается своим чередом. Но сам он непрерывно думал о Дуне и явственно ощущал, что душа ее находится здесь же, в Замке, витает около них. Выбрав момент, он сказал об этом вслух, отодвинув, наконец, в сторону слишком оживленный общий разговор. Оказалось, что Нина Григорьевна давно об этом наслышана. Она тотчас подтвердила, что да, действительно, есть поверье: в течение девяти дней души умерших обитают в своем доме и только потом улетают в иные дали. «Так что и Диночка сейчас здесь, с нами», – заключила она с живостью. А Верочка убежденно поправила: «Не через девять дней, а после сороковин».