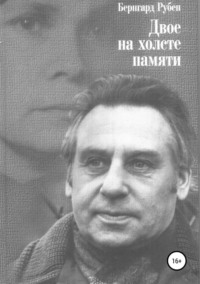
Двое на холсте памяти
За звонком в дверь последовали телефонные звонки. Из его компании дала о себе знать Нина Григорьевна, а за нею в трубке прозвучал зычный голос Александра Кованова, состоявшего с ним и с Ниной Григорьевной в одном профессиональном комитете литераторов. Кованов был сыном покойного маршала и дважды Героя, ставшего знаменитым в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания посаженного генералиссимусом в тюрьму. Знакомы они были несколько лет, но сближение произошло прошлой весной, когда Кованов, выйдя вместе с Кортиным после какого-то их собрания, предложил завернуть в его комнату в старой московской коммуналке. Комната эта досталась ему от очередного развода и размена, но постоянно он здесь не находился – жил у новой жены в отдельной квартире. Он явно искал профессионального общения, для того и зазвал к себе Кортина, присмотревшись исподволь к нему в их комитете. Для начала Кованов прочитал кое-что из своих этюдов о временах года, которые со скрипом пробивались в печать из-за естественной связи с церковными праздниками – Рождеством, Крещеньем, Благовещеньем, Успением, – и потому он подавал их под видом «народного календаря». Затем, удовлетворенный завязавшейся беседой, он покопался где-то в углу за этажеркой и достал страницы задуманной им книги об отце. Он намеревался написать роман и рассказать в нем правду о самой войне, как она велась из Ставки Верховного: его отец, будучи командующим родом войск, являлся одновременно представителем Ставки на разных фронтах и входил в круг главных военачальников Сталина. Писать подобную книгу, как он ее задумал и начал, можно было только «в стол» – тайно и без надежды на здешнее опубликование. Или заведомо обрекая себя на гонение со стороны родного государства, ежели передать рукопись на Запад или пускать в «самиздат». У Кортина тоже имелись свои секретные наброски, частично отделанные и показанные Дуне, прочитав которые она с подъемом воскликнула: «Вот это то, Гарь! То самое…» Так что слушать Кованова было ему интересно вдвойне. Прочитанные вслух куски безусловно могли стать настоящей прозой, и авторская нацеленность была ему близка. Однако и недостатки первого написания, вытравляемые только упорным переделыванием и многократным переписыванием, тоже были очевидны, и он без реверансов указал на них. Это еще более притянуло к нему Кованова. Но летом Кованов жил в деревне на Оке, арендуя крестьянский дом-пятистенок, потом Кортин всю осень почти не бывал у себя в квартире, и связь между ними прервалась.
Кованов звонил с новогодними поздравлениями, а узнав о постигшем его горе, тотчас пригласил к себе – пообедать, побыть вместе. Кортин сперва решительно отказался – ведь не пошел даже в собственную компанию. Но под конец разговора неожиданно для себя согласился и, посидев за своими записями в дневник, поехал к Ковановым, несмотря на тридцатиградусный мороз, в неближний свет, на окраину города, где они жили в районе-новостройке. Он поразился тогда еще одному завету Дуни: З а в е д и н о в ы е з н а к о м с т в а – т ы э т о с м о ж е ш ь, е с л и з а х о ч е ш ь. Неужели и такой оборот она предусматривала, когда писала ему свое последнее письмо?
Кованов был высокий, импозантный мужчина с черными бровями и седеющей броскими пядями шевелюрой, а жена его, которую Кортин увидел впервые, была, напротив, полной и коренастой, с широким мясистым лицом и напомнила ему комендантшу Дуниного дома. За обедом они старались его поплотнее накормить, обогреть, отвлечь от горя. Они совсем не знали Дуни, и от этого ему было даже легче говорить с ними. Настроены они были к тому, что делалось в стране, очень критически и радикально, ратовали без колебаний за «новую революцию», дабы выкорчевать всю разросшуюся скверну. Эволюция никак их не устраивала, только насильственное свержение, как в семнадцатом году. Но Кортин не спорил, больше слушал, не разжигая привычные дебаты. Для него было важно сейчас то, что он сидел за столом с этими по-доброму отнесшимися к нему людьми и чувствовал их человеческое тепло, а не то, что они высказывали идеи, с которыми он был совершенно не согласен и которые они с Дуней давно отвергли. Он терпимо отнесся даже к тому, что жена Кованова, преподавательница техникума, решительно судившая обо всем вокруг, не читала лучших нынешних писателей, которых чтили они с Дуней, – ни Федора Абрамова, ни Быкова, ни Трифонова, ни Распутина. В конце концов, это была не его забота, а Кованова. Ему вспомнилась тогда собственная формула: каждый в этой жизни смотрит «свое кино». И все общественные пристрастия, мнения, познания, разноречия – все это вдруг отошло для него в тот момент на второй план.
Посещение Ковановых ненадолго отвлекло его от боли в душе. Да он и метнулся к ним, чтобы как-то унять, рассеять эту боль. Но боль нарастала и захватывала его все неотвратимее. Она была в нем, а он весь – в ней. Еще в Старом году он приступил к самой важной записи в своем дневнике – о последних трех днях жизни Дуни и одном дне потом, и продолжал вести ежедневные записи. Он ничего не желал скрывать от настоящего и будущего суда собственной совести и описывал все подробно и точно. Только правда, какою бы тяжкой она ни представлялась сейчас, могла дать ему возможность жить в будущем. И он целыми часами закреплял на бумаге происшедшее. Но память его не отключалась и после того, как тетрадь вбирала в себя очередную запись. Исповедь не снимала, как должно бы, камень с сердца и не облегчала переживаний, она даже обостряла их.
Он все думал и думал, чего он не сделал, чтобы спасти Дуню. Мысль его прикованно вертелась вокруг одного и того же воспаленного очага, крутя и перемалывая всю душу. Это было самозагонное верченье в беличьем колесе, он понимал это, но не мог, да и не хотел остановить себя в своем самообвинении и самоистязании. Все, что было сделано им хорошо и правильно, он признавал, но отставлял в сторону, как само собой разумеющееся. Душа болела и терзалась всеми упущенными возможностями, ошибками врачей и их бездушием, его собственным поздним прозрением и ничтожными мерами. Его язвило даже воспоминание о том, с каким смятенным трепетом и надеждой говорил он со всеми теми врачами, в коих было больше от медицинских чиновников, чем от истинных врачей. Недостаточная компетентность покрывалась у них уверенно-непререкаемым видом. Вид этот смягчался, становился более участливым и обещающим, когда они получали от родственников больных свою «вторую зарплату» – деньги, подарки. Это сделалось широко утвердившейся практикой: государственные больницы с государственной оплатой труда исподи действовали «теневым» способом, как частные. Однако на судьбу больных эти деньги и подношения влияли слабо – давали многие, а возможности врачей в общедоступных больницах, как и квалификация их самих оставались все теми же. Как и применявшиеся для общего пользования дешевые и устаревшие лекарства. О новых же лекарствах, импортных, дефицитных, не поступающих в «общую сеть», врачи имели строгие указания не сообщать больным и их близким, дабы не возбуждать нежелательные страсти. И в медицине правил бал всесильный в стране Дефицит – дефицит больничных мест, спасительных лекарств, современной аппаратуры, врачебной квалифицированности и совести.
Все это открывалось ему слишком медленно. Он словно видел и не видел действительность. По традиции, с детства, он был настроен на благоговейное отношение к профессии и самой личности доктора-исцелителя, и всякий раз во время Дуниной болезни он ожидал встречи с таким врачом, добросердным и всеведущим. И такие врачи были – как тот хирург, которая классно сделала Дуне первую операцию и провела послеоперационное лечение. Но встречались они в поликлиниках и больницах все реже, теряясь в массе неискусных и непорядочных, и старания их сковывались этой средой и незавидными условиями работы. А тех, других, эти условия даже устраивали, потому что персональная ответственность и личная репутация врача подменялись здесь круговой порукой, освобождавшей заодно их и от старозаветных правил врачебного поведения.
Теперь, запоздало, Кортин имел достаточное представление о советском врачебном племени и о порядках, в которых оно обращалось, завися от них и подпирая их собой. Теперь он знал наверное, где, когда была допущена врачебная халатность, повлекшая за собою роковые последствия. А тогда он, наивный слепец, радовался, что после второй операции Дуне не назначили ни облучения, ни химии. Того облучения, которое после первой аналогичной операции дало им восемь лет полноценной совместной жизни. Знал он теперь и то, какие еще известные и используемые в больницах препараты оказались не примененными, а были ей показаны. Сейчас он был уверен, что даже теми средствами, которые все же имелись в распоряжении врачей, – если бы их своевременно выбирать изо всего широкого спектра и умело комбинировать – возможно было эффективное лечение…
В его мозгу прокручивались все врачебные недоделки и упущения, ставшие для него теперь столь очевидными. Мысль его опять зацепилась за гормоны, упомянутые в разговоре с ним знакомым консультантом в той самой больнице, где лежала Дуня. Эти гормоны были бы благотворны для нее во время летнего, повторного, курса химиотерапии и сыграли бы роль спасительной передаточной шестеренки. Они, если б и не излечили совершенно, то нейтрализовали бы болезнь на несравненно больший срок, нежели назначенная хирургом для проформы заведомо неэффективная химия, а в этот-то благоприятный период как раз подоспело бы и добытое Лозовым чудодейственное средство, и продление жизни превратилось бы в спасение. Такой ход событий виделся ему теперь задним числом. Но никто не назначил ей гормонотерапию, применявшуюся в химиотерапевтическом отделении, – она была «хирургическая» больная и лежала, как и после операции, в отделении у хирургов… В который раз Кортину представлялся тот хирург, заведовавший отделением, – оперировавший Дуню и привычно, как вполне естественное дело, взявший за операцию деньги. В разговоре с Кортиным он особо и не скрывал, что они, хирурги, не верят в эту химию, но говорилось это вскользь и для пущего подтверждения собственного престижа относительно терапевтов. Впрочем, по поводу той химии, которую он применял по установленному инструкцией трафарету, его скептицизм был обоснован. А вот другой он не знал и не интересовался, обезопасив себя произведенной формальностью. Кортин помнил, как жалко выглядел этот местный мэтр перед молодым профессором из Онкологического центра, приезжавшим сюда для консультации. Он, пожилой человек, державшийся в своем диспансере законодателем, вдруг превратился в мальчишку-школьника, не знающего урок, когда молодой длинноногий, баскетбольного роста профессор, восходящий гений, спросил его, заведующего хирургическим отделением, применяет ли он такие-то и такие-то препараты, практикуемые и рекомендованные Центром. И он, здешнее светило, порозовев, только кивал неопределенно своим крашеным коком. Нетрудно было догадаться, что о большинстве быстро перечисленных препаратов он не знал вовсе или слышал мельком, не посчитав нужным для себя, по своей хирургической принадлежности, ознакомиться с ними профессионально. Кортин наблюдал эту сценку, стоя невдалеке в коридоре. Да что от него, корыстолюбца, было ожидать, коли даже их знакомая врач-консультант этой же больницы, седая добропорядочная женщина со стажем фронтового хирурга, с помощью которой, как великого блага, удалось договориться, чтобы Дуню оперировал этот именно хирург, – сама упомянула про столь нужные «гормончики» лишь поздней осенью, при вновь наступившем резком обострении, когда применение их стало бесполезным…
По всему этому позднему его разумению выходило также, что он допустил жестокий просчет, приняв на безусловную веру отрицательное мнение о построенном в Москве в те годы Главном онкологическом центре, который возглавлял академик Блохин. Но мнение это высказала наиболее информированная и многоопытная в медицинских делах Ирма Яковлевна Розовская, из подруг Дуни старшая по возрасту и весьма ею почитаемая, к которой и Кортин, вслед за Дуней, относился с заведомым пиететом. Ирма Яковлевна веско заявила, что там, у Блохина, безжалостны к больным во имя своей науки, вернее, во имя того результата, который стремится во что бы то ни стало получить Блохин в престижных целях, и что весь этот колоссальный комплекс называют «Блохинвальд» – по аналогии с фашистским Бухенвальдом – из-за большой смертности больных в проводимых массовых экспериментах. Конечно, этот Центр, щедро финансируемый властью, призван был доказать приоритет советской науки в борьбе с раком и тем подтвердить заодно преимущества социализма вообще. Так что для руководства и ведущих специалистов Центра открывался широкий путь к почетным званиям, орденам, премиям, заграничным поездкам и материальным благам. Вся эта смесь корысти, тщеславия, идеологии и политики была полностью в стиле установившегося времени. И Кортин отказался от попыток искать ходы, чтобы определить туда свою Дуню. Он не мог допустить ни экспериментов над нею, ни бездушного к ней отношения. И сам тоже почувствовал облегчение, поскольку не надо было заниматься тягостным для него делом – обивать пороги, просить, требовать, «вступать в контакт с гнусной системой», по выражению одного знакомого литератора. Они говорили тогда втроем – Гита, Ирма и он – ранней весной, уже зная от того хирурга, сделавшего последнюю операцию, и мрачный диагноз, и неутешительный прогноз-приговор. Но тогда у них были еще надежды на домашнее лечение чудодейственными травами, милилом и приватно применяемой вакцинотерапией, о которой как раз стало им известно. А из лечебных учреждений он так и ограничился городской больницей-диспансером, в то время как именно в Онкологическом центре активно применяли новейшие химические препараты и различные способы облучения. Лечебные возможности Центра, его научный уровень были несравнимы с возможностями и уровнем городской больницы, в которой лежала Дуня и которая теперь представлялась Кортину каким-то второразрядным стационаром, глухим врачебным закоулком, куда с тех высот спустился однажды, как вестник, молодой длинноногий профессор с обликом гения. И он казнил себя: надо было не избегать этот Центр, а, напротив, пробиться туда и использовать во благо все имевшиеся там возможности.
По сути дела его взаимоотношения с медициной долгое время сводились к пассивному упованию на врачей и самозабвенному молению о Дуне – «Да минует ее чаша сия!» – вместо трезвого расчета и хваткого уменья организовать для нее наилучшее лечение. Вместо того, чтобы цепко добиться от медиков всего достижимого, что только они были в силах совершить. У него не оказалось ни хваткости, ни цепкости, одно никчемное прекраснодушие. И во всем происшедшем с Дуней он винил теперь себя.
Средоточием охватившего его душу самообвинения был его собственный отказ от немедленного применения в домашних условиях добытого с помощью Лозового сильнодействующего препарата. За это брался частным образом заведующий химиотерапевтическим отделением из другой больницы, не той, где лечилась Дуня. Видя, как скоротечно прогрессирует ее болезнь, Кортин умолял его срочно положить Дуню к себе в отделение, но тот умело уклонялся, приоткрывая ему лишь один путь – делать эти внутривенные инъекции на дому. Несмотря на всю вероятность острых побочных явлений, тем более опасных при крайней истощенности физических сил больной. Там было немало деталей, которые вызвали у Кортина сомнения в добросовестности сделанного ему предложения. И на следующий день после их переговоров, держа в руках портфель с только что полученным исцелительным препаратом, уверенный, что – вот он, эликсир жизни, добыт и его Дуня спасена, Кортин примчался в городской онкологический пункт, где распределялись места на стационирование больных. Распорядитель этого пункта, сразу догадавшись, кто предложил Кортину свои частные услуги, неодобрительно усмехнулся и негромко, но твердо обронил совет – не связываться с ним. Он оформил заявку и заверил Кортина, что в понедельник его жену обязательно положат в ту больницу, где она оперировалась и наблюдалась, и все будет сделано, как полагается, солидно, в стационарных условиях и в химиотерапевтическом отделении, как о том и просит Кортин. Главное, что имеется этот дефицитный, вернее даже, недоступный препарат.
Была пятница, конец недели, приходилось делать выбор, и Кортин, избегая одного риска, пошел на другой – решился подождать эти два выходных дня, всего два дня, до понедельника. Но перед тем понедельником, на который он уповал, стояло воскресенье. Была ночь с субботы на воскресенье, в которую Дуня умерла. Ночь торжества ее духа над распадом тела и последнего ее проявления себя такой, какою она была всегда. Ночь его поражения.
И теперь, отметая прочь все казавшиеся тогда существенными доводы, по которым он не доверил свою Дуню, своего ребенка, в предлагавшиеся руки, Кортин твердил себе одно – что упустил в ту черную пятницу последний шанс спасти ее. Тут была его прямая вина, не ошибка, и никакие обстоятельства не могли ее оправдать или смягчить. Это было его проклятие.
И снова шаг за шагом он волочил себя по недавнему прошлому, с беспощадной ясностью видя, почему все произошло так, как произошло, а не иначе – как могло и должно было произойти. Опять вспоминались ему многочасовые ожидания-моления на больничных лестницах во время Дуниных операций, его трепет и боль, сопровождавшие ее болезнь. И снова терзало позднее прозрение: переживаний было много, управления обстоятельствами – ничтожно мало. Одно бесполезное страдание. Пассивность и иллюзии. Упование. И он судил себя сам, и выставлял для возмездия еще перед кем-то, кто находился над ним, перед Вышней силой, управляющей их людскими судьбами.
В какой-то момент он вдруг осознал, что доискивается до совершенных ошибок с целью их исправить и заново переиначить ход событий, все еще чая возвращения своей Дуни в этот мир, надеясь и предполагая такую возможность. Это осознание не испугало его близостью сумасшествия, но отрезвило – ведь одновременно он понимал, что этого не может произойти. Оттого и тосковал с такой безысходностью. И тут у него мелькнула догадка, что стенающая душа его ищет, наверное, выход для своей смертельной тоски, а воспаленная память как раз и подает такой выход, образуя у него комплекс вины. И, значит, если бы у него не оказалось одних тяжких грехов, нашлись бы другие?! Но тогда это не выход, а, напротив, уход в болезнь, слепой ответ пораженной несчастьем психики…
Он попытался отнестись к себе объективно: нельзя ему, не медику, брать на себя обязанности врачей и винить себя за пороки окружающей действительности. Когда все берешь на себя, так и виноват становишься во всем. Большинство людей, у которых умирают близкие, так не поступают и им легче – «врачи виноваты» или вообще «Бог дал, Бог взял». Но ни такой самосохранности, ни хитрого приспособительного неведения, ни голого физиологического объяснения мук совести он не мог для себя принять. И внутреннее судопроизводство вспыхивало с новою силой.
Он судил себя и отдавал себе отчет в ничтожности своего суда: Дуни-то нет, нет и никогда уже не будет ее на Земле, не будет ее улыбки, ее жеста, слова, дыхания, ее телесного присутствия, самой ее жизни и живой совместности с ним. Нет ее. Ушла из этого мира. А он остался здесь. И не побежден в борьбе, что было бы его жребием, одолением его извне, но – потерпел поражение сам, по своей вине, от самого себя. И потому нет ему прощения, нет и не будет ему на этом свете успокоения.
Душа болела все сильнее, и перед ним встал угрожающий вопрос: как справиться с собой, остановить саморазрушение. Формулы вроде «Переломи себя» или «Переделай себя» были для него неприемлемы. Они с Дуней давно уже критически относились к такого рода советам, проистекавшим от господствующих тезисов «покорения природы» и «переделки общества». «Допокорялись!» – бросала Дуня в сердцах, когда слышала эту трескотню по радио и телевидению.
Чтобы устоять, следовало не ломать, а опереться на себя, нащупав в душе островки крепкой почвы. Он стал говорить с собою поспокойней. И прежде всего сказал себе, что он ни от чего не отрекается: у него все записано, все описано, ничего не утаено, и он еще вернется к этой своей летописи. Но сейчас, если он намеревается жить дальше, у него только один выход – на время отсечь происшедшее, прекратить мучительное перемалывание самого себя. Дуне он этим не поможет, ее не возвратить, а это единственное, ради чего он немедля принес бы себя во искупление, в обмен, в жертву, в благодарность, во что угодно, лишь бы она жила… Что же ему делать теперь? Он должен исполнить ее Заветы ему. П о с т а р а й с я п р и н я т ь в с е с п о к о й н о. Это тоже были ее слова, сказанные в последнем заповедальном письме. Но сейчас ему надо было принять не только ее смерть, а и свою жизнь – как она есть. Без надежд и иллюзий, но и без прибитости, слабости, зависимости от кого-либо. С достоинством и стойкостью – ведь они свойственны ему. И надо употребить все свои жизненные силы на работу, которая в нем задана, бьется, требует делания. Это все, что у него осталось и что также завещала ему Дуня.
Его поддержал телефонный звонок Фиры, длительное время находившейся в больнице, где ей поставили ритмоводитель сердца. Из подруг Дуни она была наиболее симпатична Кортину, и он стал подробно рассказывать ей о последних днях Дуни, о похоронах и поминках. А Фира поразила его своими вопросами, в которых открылось, насколько глубоко, сокровенно она чувствовала, знала, понимала душу своей Дины. Потом она заговорила о всей прожитой Дуней жизни – о том, что было в этой жизни хорошего, интересного, о ее любви к Кортину, о полноте ее жизни и счастье, пришедших к ней с их любовью. И, как и Кортин, называла ее теперь Дуня. То, о чем говорила Фира, имело для него особенную важность и было связано со всею невзгодной судьбой Дуни. На судьбу эту наложила свою обездоливающую печать перенесенная в раннем детстве болезнь, после которой у девочки остался на всю жизнь неисправимый физический недостаток – она была горбатой. Горб был небольшой, но он был, деформировал ее фигуру, а вместе с тем и предопределял ей жизнь бессемейной одиночницы. До появления в этой жизни Кортина.
Все, что говорила ему Фира о Дуне, пронизывала нежная и совершенно бескорыстная любовь. И Кортин, сравнивая, подумал потом о Гите и Ирме, которые вместе с Фирой образовывали как бы особый, самый близкий и давний круг Дуниных подруг. Несомненно, Гита и Ирма также очень любили свою Диночку. Но они, допускал Кортин, привыкли считать ее со всем богатством ее души и телесной ущемленностью как бы своим достоянием, данным им в ответ на их преданную любовь к ней. И оттого они подсознательно ревновали ее к нему, к ее образовавшемуся счастью и даже, быть может, безотчетно завидовали той полноте жизни, которая пришла к ней с его появлением и чего они сами в той или иной мере были лишены. Видимо, здесь крылась и одна из причин их поведения осенью, когда они, обе не работающие, не обремененные семьей женщины, ничем не помогли ему в домашнем уходе за Дуней и бытовых делах в те самые трудные месяцы. И почему отдалились от него теперь, после похорон. Впрочем, причин было много, а связывала их только Дуня.
Разговор с Фирой принес ему неожиданное облегчение. Подняло дух признание ею Дуниного счастья с ним. Это признание утишило еще одно его мучение из-за того, что он так и не предложил Дуне стать его «законной» женой, не доставил ей этого женского удовлетворения и радости, процеплявшись за свою пустопорожнюю формальную независимость.
Поднявшееся настроение подтолкнуло его приняться за ответное письмо Дуниному отцу. До недавнего времени это был еще вполне бодрый человек, приезжавший несколько лет подряд в Москву из своего районного городка на Северном Кавказе повидаться с дочерью и проконсультироваться со столичными врачами насчет своих побаливающих ног. Был он высок, широкогруд, с наголо бритой крупной головой и держался прямо, сохраняя облик и повадку кавалериста времен Гражданской войны, а заметно сдал год назад, когда приезжал в последний раз. Поэтому телеграмму о смерти Дуни Кортин послал на имя его жены, которая была много моложе, чтобы его подготовили к этому известию. Но Андрей Александрович тотчас позвонил сам и сообщил, что на похороны вылетает сын Валерий. В его голосе, басовитом и твердом, не слышалось ни подавленности, ни тем более слезливости. Он словно не допустил в себя разрушительное горе. Проявились, должно быть, его солдатская закваска и самозащита возраста.
После похорон отец Дуни прислал уже два письма, написанных знакомым Кортину размашистым почерком и часто без запятых. Кортин перечитал первое:
«Гарик милый!
Итак неминуемое свершилось.
Свершилось так неожиданно для меня, что не хочется верить. Еще 7.XII с.г. Дина писала что ложится в больницу, так утешала меня, когда сама уже знала что ее дело уже безнадежно и она думала не о себе, а о моем состоянии. Теперь мне понятно что и Ваше последнее письмо было продиктовано тоже ею. Она всю свою жизнь думала не о себе а о своих близких.