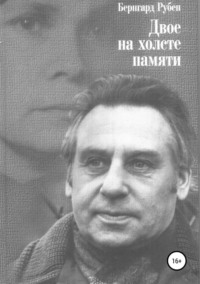
Двое на холсте памяти
Кортин вспомнил эти слова в потянувшиеся затем тягостные и никчемные дни, когда зримый образ Дуни вдруг стал временами уходить от него, распадаться, делаться неуловимым. Он испугался и решил немедленно, начав с середины той же толстой тетради, в которой вел дневник, писать ее словесный портрет: «Дуня. Какая она». Он думал о том, что когда-нибудь напишет повесть о ней. Эта мысль уже являлась ему раньше.
Вместе с тем пора было рассыпать их Измайловский замок. Упаковывать и перевозить вещи, которые он намеревался брать к себе в Сокольники, и окончательно определить судьбу всего прочего, также входившего предметными частицами в жизнь Дуни и тем самым в его жизнь. Но жизнь эта кончилась, рухнула. И надо было о с в о б о ж д а т ь квартиру для тех, кто сюда вселится вместо них.
Перед ним маячил уже близкий срок, названный председателем кооператива, но он упорно не нарушал внешнего вида Замка, берег его черты, убранство, цеплялся за эту его кажущуюся незыблемость, на что-то все еще уповая, чего-то еще ожидая свыше, надеясь, да, надеясь на чудо. И чтобы не спугнуть такую вероятность, он как бы исподволь, ненароком упаковывал только то, что содержалось в недрах Замка – в шкафах, стенных кладовках, на закрытых полках, сохраняя иллюзию жизни в этих стенах, помня досконально – что из вещей где лежало, и лелея тайную мысль о внезапной возможности все вернуть снова на свои места. Подобная же мысль сопровождала его и в хождениях по комиссионным магазинам, куда он отнес для продажи Дунины пальто и недавно купленные милые импортные сапожки на редко встречавшемся теперь натуральном меху. Это должны были быть заметные деньги при его невеликих доходах и больших тратах последних месяцев. И он, тяготясь таким недостойным делом, стоял там в очереди, предъявлял приемщице свой паспорт для фиксирования места его прописки, передавал в чужие руки Дунины вещи. А сердце его щемила тревога: «Вдруг Дуня вернется?! Во что же тогда она оденется?..» От этой мысли загорались другие, скачущие, возбужденные: «О, если бы вернулась! Накупил бы сразу всего… Только бы вернулась! Ведь может же статься, вдруг явится…» Но он сам и разуверял себя: «Нет, ушла, очень надолго. Вот только душа ее пребывает до сорока дней еще где-то рядом, около, недалеко».
Особенно трудно было ему расстаться с черной каракулевой шубой, купленной Дуней лет двадцать назад и за это время повысившейся в цене в несколько раз. Но и по новой стоимости достать такую шубу сейчас было бы невозможно. Кортин называл ее боярской шубой. После перенесенных Дуней операций она стала для нее тяжеловата. Но в лютые морозы, какие стояли в том декабре, только и ходить было в этакой шубе. В тот вечер, когда он ездил в известный меховой магазин в Столешниковом переулке, он еле добежал потом до метро – так хватало за нос и уши. А душа ныла от еще одной совершенной сейчас и непоправимой ошибки.
Его обступили хозяйственные дела. Он каждый день ездил в Измайлово, укладывал там вещи своим потаенным способом, затем бродил по внешне нетронутому Замку, размышляя о том, что не так-то просто сойти на нет тому, что создавалось с добром и любовью. Здесь каждая вещь, каждая поделка, украшение, занавеска, дверная ручка – все было приобретено или слажено своими руками на радость и удобство, определено на свое место, тщательно подогнано и привинчено. И не поддавалось скорому и легкому разбору, исчезновению.
К себе домой он возвращался поздно, с грузным чемоданчиком, в котором захватывал из Замка очередную порцию книг – перевозил их пока так, попутно, своим каждодневным полуночным рейсом в метро для облегчения грядущей конечной перевозки, неизбежность которой тоже со всей очевидностью сознавал. Как-то он окинул себя в метро взглядом со стороны: в вагоне сидел погнутый жизнью мужчина с заметно седыми волосами, выбившимися из-под меховой шапки, с окаменевшим лицом, читающий в очках журнал или только держащий его перед глазами, но думающий свою думу. И так он одиноко ездил по ночам, вроде бы пребывая в какой-то деятельности, которая была и не деятельность, как он сам считал, а жалкое копошение, сопровождавшееся его же вопросом: «Зачем все это?»
Дома он возился с привезенными книгами, листал их, читал отдельные страницы или главы, потом расставлял, долго определяя им место в своей обширной библиотеке. Ложился он спать когда в два, когда в три часа ночи, и всякий раз давал себе слово прекратить эту ночную жизнь, ввести себя в нормальный режим. Он строго говорил себе, что если он хочет жить и работать, выполняя Дунин завет, а, значит, и во имя их обоих, – ему надо быстрее войти опять в свою трудовую колею. Нельзя лежать поверженным во прахе. Как нельзя ни просить, ни ожидать ни от кого помощи. Надо обрести себя. Надо выдюжить. Подняться. У него есть характер, остался…
По утрам он записывал в дневник, как проходят его теперешние дни и все то, о чем он неотвязно думал и вспоминал. Он как бы вел протокол своей прежней и нынешней жизни, нынешнюю отображал по ее ходу, прежнюю стремился восстановить до мелочей, закрепить на бумаге, чтобы она не пропала в нетях. Он издавна хранил письменные следы своей жизни – старые, с армейских времен, записные книжки, тетрадки, многочисленные письма родных, друзей, знакомых, отдельные листки с заметками и рассуждениями. Он всегда хватался за перо, когда что-либо трогало его ум и сердце. Более или менее регулярно, в тетрадях и блокнотах с добротными обложками, он стал вести записи уже по возвращении в Москву из Заполярья, где закончил свою долгую армейскую службу. Но записи эти, бегло обозначая канву повседневности, посвящались главным образом отклику на общественные и литературные события. И только в последний год жизни Дуни он шел по горячему следу их личной судьбы, стремясь подробно зафиксировать все происходящее с ними двоими. Он писал с одержимостью – чтобы когда-нибудь все вспомнить так, как оно было на самом деле, вспомнить, заново рассмотреть и оценить. Это было его убеждение, образовавшееся в отрочестве и развившееся в сознательную веру, что истина непременна для человеческой жизни, что без способности и стремления к абсолютной правде нельзя быть человеком. И в этой способности он видел возможность спасения человека, даже совершившего тяжкий грех, ибо то был путь совести. Но для такого пути как раз и надлежало засвидетельствовать пережитое «под протокол», потому что правда и память прочнее всего соединяются в
н а п и с а н н о м с л о в е.
Так он проводил свои утренние часы. Потом он ехал в Замок. По дороге вспоминал, как летел сюда, когда знал, что там его ждет Дуня, ждет на их общую радость и встречу, или, когда она болела, нуждается в его помощи, поддержке, уходе за нею. И эта помощь – прислуги, сиделки, медицинской сестры и самого близкого друга, любящего сердца – тоже была радостью для него. Даже в самые трудные дни ее болезни: все равно это была их жизнь, их совместность на этой земле. А Дуня и в болезни всегда оставалась собою.
Его тянуло в Замок – здесь еще обитала ее душа. В один из вечеров, придя сюда, он устало опустился в ее кресло у круглого журнального столика и застыл, откинув голову назад, закрыв глаза, вытянув ноги. Из оцепенения его вывел телефонный звонок. Кортин медленно поднял трубку, произнес «слушаю» – ее слово, перешедшее к нему, она так отвечала всегда на телефонные звонки. Трубка молчала. Он подождал, еще повторил свое «слушаю» и, не получив ответа, внятно спросил: «Дуня, это ты?» Спросил обычным голосом, с каждодневным своим ожиданием, почти с уверенностью – ведь должна же она была сообщиться с ним как-нибудь. Хоть всего звонком одним…
В те дни он виделся только с Ниной Григорьевной и Верочкой, когда приезжал в Измайлово. И, занимаясь сборами, говорил с ними о Дуне. Он испытывал потребность говорить о ней, о ее душе, о ее жизни. И был несказанно благодарен Нине Григорьевне за вдруг произнесенные слова, что вся жизнь Диночки в этой квартире была окрашена любовью.
Так прошли у него две недели после ее смерти, и наступил Новый Год.
Его звали встречать Новый Год, как обычно, у Мильчиных, в их постоянной компании. И у него, и у Дуни имелись друзья более давние, однако уже в течение ряда лет все праздники они проводили в этом устоявшемся после «оттепели» кружке, где вовсю продолжали толковать о том, о чем в других домах и тем паче в присутствии малознакомых людей приходилось умалчивать. А здесь они обменивались самой свежей информацией, горячо обсуждали ее, передавали для прочтения по кругу все, что доставали из «самиздата» и «тамиздата» и даже, как студенты, читали вслух полученные на короткий срок статьи и книжки. Для того, собственно, они и собирались на свои посиделки. Это был замкнутый кружок доверяющих друг другу людей, не нацеленных при том на какую-нибудь активную деятельность вовне. Расходясь, они лишь шутили вполголоса: «Интересно, на сколько лет мы сегодня наговорили?» Имелся в виду срок уголовного наказания за «антисоветскую агитацию», под которую власти могли подвести любой частный разговор. Конечно, они принимали меры предосторожности. У Мильчиных, в трехкомнатной квартире, застольничали в средней комнате, не соприкасавшейся с соседями, у Дуни или у Кортина плотно закрывали дверь в прихожую. И везде убирали или накрывали подушками телефон, соизмеряли свои голоса и громкость магнитофона со звукопроницаемостью стен, пола и потолка. В стране уже полностью восстановилась обстановка всеобщей слежки и подавления свободомыслия.
Шел второй десяток лет после знаменитого о т т е п е л ь н о г о десятилетия, начавшегося посмертным разоблачением Сталина, когда на свободу вырвался, наконец, дух правды. Но дух этот не мог ограничиться только рамками указанного сверху периода его, Сталина, злодеяний, получившего уклончивое официальное наименование «периода культа личности». Кровь, смерть, страдания миллионов невиновных людей, расстрелянных, заключенных в тюрьмы и лагеря за четверть века тирании, побуждали вскрывать истоки и причины всенародной трагедии. Но поборники таких побуждений столкнулись с сопротивлением своих же еще более многочисленных сограждан, поднявшихся на этих самых истоках и основах, кто воплотил их в себе, был накрепко связан с этим «культом», привержен ему. Они были сильны, организованны и в их руках на всех уровнях находился всемогущий аппарат власти. И хотя разоблачение Сталина началось сверху – новым партийным вождем Хрущевым, «оттепель» умело пресекли. Впоследствии, размышляя об этом крушении возникших тогда демократических надежд, Кортин пришел к выводу, что «оттепель» была обречена – общество оставалось еще сталинистским, советский монолит, эта ледяная глыба, насквозь пронизанная и скрепленная насилием, страхом, всеобязательной коммунистической идеологией, подтаяла совсем незначительно, в тонком поверхностном слое. Свержение противоречивого бурнодеятельного Хрущева, стремившегося, по сути, быть в противовес Сталину «добрым царем», обозначило этот обратный перелом. И вскоре вся партийно-государственная, единосущная в стране пропаганда опять запустила в ход старые испытанные трактовки на чуть подновленный манер. Кортин определил это начавшееся время как «ползучий неосталинизм».
Но дух правды и совести, вырвавшийся на свободу, не смирился, не угас, а тотчас стал претворяться в мощный поток неофициальной «самиздатской» литературы – в нетипографские копии всего того, что не публиковалось подцензурной печатью, в магнитофонные записи не пропускаемых на радио и телевидении песен и стихов. Это рукописное и магнитофонное половодье внутри страны дополнялось просачиванием «тамиздата» – зарубежными изданиями здешних и тамошних авторов на русском языке, а, главное, интенсивным накатом радиопередач иностранных станций, работающих специально для населения Советского Союза. И тогда началось яростное тотальное преследование этого «антисоветского» духа свободы. Снова заработала на повышенных оборотах зловещая машина подавления, быстро восстановленная во всей прежней мощи и дополнительно оснащенная по сравнению со сталинскими временами современной электронной техникой. Общий поток свободного человеческого духа был опять загнан в подполье, затем разбит, раздроблен на отдельные очаги и очажки сопротивления, бурлившие большей частью среди интеллигенции, студентов, бывших заключенных. На первом этапе с явными сопротивленцами разделывались методами административного давления, компрометации и общественной травли. А когда доводили дело до судебной расправы, то такие процессы подгонялись под специально принятые статьи уголовного кодекса. Чтобы показать, что социалистическое государство карает лишь хулиганов, тунеядцев, уголовников, а не политических инакомыслящих. И еще один способ обезвреживания смутьянов вошел тогда в широкую практику – объявление их психически больными и насильственное помещение в особо назначенные для них «психушки». И в самом деле, какой нормальный человек станет бороться против самого передового и справедливого общественного строя… В отношении же тех твердокаменных, кто оказывался вовсе не по зубам режиму из-за своей мировой известности и завоеванного морального авторитета, стали использовать ленинский прием «выдворения».
Их честная, как говаривала Дуня, компания никак не являлась таким открыто противоборствующим с властью очагом. Это была маленькая, скрытая от посторонних глаз и ушей площадка личной свободы, их домашняя плошка вольности из океана свободного духа. Но жить без этой свободы, пусть в таком стесненном ее выражении, они после «оттепели» уже не могли, и это соединило их в одну компанию, за пределами которой каждый из них сам на свой лад приспосабливался и вписывался в окружающую действительность. Подобная домашняя кружковщина сделалась тогда наиболее распространенной формой существования людей, считавших себя интеллигентными. Но Кортин отдавал себе отчет, что по сравнению с теми, кто боролся за свободу активно, они всего лишь «держали фигу в кармане», и не переоценивал ни себя, ни своих сокружковцев.
Раньше в этой компании часто появлялись и две самые близкие и давние, с институтских времен, подруги Дуни, но у одной из них, Фиры, помимо болезней, сопровождавших ее всю жизнь, несколько лет уже болел престарелый муж, а у другой, Гиты, муж умер от инфаркта, и все ее усилия сосредоточились полностью на том, чтобы оберегать себя. Что до двух давних закадычных друзей Кортина, то у первого из них, отец которого был расстрелян в лихобойном тридцать седьмом году, а мать провела свои семнадцать лет в лагерях, теперь появился в доме и занял место наиболее близкого человека натуральный кагэбешник из соответствующего отдела в Гостелерадио, где их друг состоял обозревателем по экономическим вопросам. Второй же друг-приятель, прогрессивный, но преуспевающий газетчик, держался в их троице, как всегда, ближе к радиоэкономисту, и Кортин, все чаще натыкавшийся на его неискренность, прекратил отношения и с ним. Разрыв с друзьями молодости он пережил без потрясения – трещина пролегла не вдруг. А главное – у него была Дуня. И скрепилась в эти годы новая компания.
Но сейчас идти в эту свою компанию было ему невмоготу. Он представил себе раздвинутый стол у Мильчиных, за которым они усаживались установившимся порядком, те же лица, по новогоднему праздничному случаю в наиболее широком составе, все то же, но – без Дуни. И себя он н е у в и д е л за тем столом. Он почувствовал, что не может и не хочет куда-то идти, играть там какую-то свою роль, что-то говорить, поддерживая разговор и скрывая печаль, дабы она не омрачила общее застолье.
Обычно он вступал в дело после Мильчина, который всегда сгорал от нетерпения обрушить на них потрясающую, самоновейшую информацию. Кортин был тяжелой артиллерией – он «разматывал» ситуации, анализировал исходные обстоятельства, толковал, докапывался до глубинных причин событий и людских поступков. Его особенно интересовали причины и пружины. Но все это было хорошо, занимательно прежде. В нынешнем его состоянии лучше было никуда не идти, и позвонившему еще раз Мильчину он сказал, что простудился и потому остается дома. Мильчин немедленно передал трубку жене, она у него ведала дипломатическими делами. Но в этом случае Лидии Антоновне все было совершенно ясно, и, не вступая в сочувственные уговоры, она сразу объявила Кортину, что не одобряет его, что он может и должен прийти в компанию. Она, верно, решила воздействовать на него по-мужски и даже высказалась без обиняков, что не следует ему принимать на себя схиму. Кортин опешил от такого ее грубого натиска и хмуро повторял, что простужен. И оттого, что это было для обоих очевидной неправдой, Лидия Антоновна еще более утвердилась в своем неодобрении. Конечно, она пыталась таким способом проявить заботу о нем – чтобы не оставаться ему дома на Новый Год одному. Но он оставался не один, а вдвоем с Дуней.
Несколько лет назад они дважды встречали Новый Год вдвоем у него в Сокольниках. У него в тот момент разладились отношения с компанией. Так выпали им семейные встречи Нового Года. И во время первой случилось смешное происшествие. Поскольку они находились дома одни, Авдотья не очень строго контролировала себя за столом, чем он и воспользовался. Выпив под его отвлекающий разговор чуть больше шампанского, она слегка опьянела, была этим прелестно смущена, какое-то время остерегалась ходить по квартире, и Кортин стал носить ее на руках, и целовать, и подтрунивать над тем, что она обезножила, и грозить, что он эту пьяную женщину отправит сейчас же в каталажку… И следующий Новый Год тоже был хорош, с выдумками, которые он заранее подготовил для нее. Но он видел, что Авдотья тоскует по людям, по компании, что ей нужно их общество, хотя она и не говорит ему об этом. А еще – она была мудрее его, терпимее к людям, умела прощать, она знала крайности его характера и хотела бы их смягчить. И он смягчился, отношения с компанией быстро наладились, они с Авдотьей вернулись туда к общему удовлетворению, и все пошло по-прежнему. Но те две встречи Нового Года он вспоминал потом как особый праздник. Авдотья соглашалась: «Да, миленький, это было очень хорошо. Но и среди близких нам людей тоже ведь неплохо. Не будем замыкаться. Тебе это тем более необходимо».
Подошедший Новый Год подводил под всем этим бытием свою к а л е н д а рн у ю черту. Прожитое отбрасывалось в прошлое. Тем сильнее его тянуло закрепить ту жизнь на бумаге. И в этот день накануне Нового Года он допоздна писал свой дневник.
За полчаса до полуночи он надел чистую сорочку, купленную ему Дуней, сменил домашние туфли на выходные и накрыл для своей одинокой трапезы журнальный столик перед телевизором в маленьком холле-прихожей. Затем он выпил рюмку водки – проводил Старый Год, самый тяжкий год его жизни. Каждое звено в нем оказалось ступенью к концу, вниз, но очевидным это сделалось только сейчас, в целом охвате; а в те дни они двигались по тем ступеням с преодолением и надеждой, со своей верой в благой исход. Не оправдавшейся верой…
Он включил телевизор. Диктор дочитывал новогоднее поздравление властей своему народу, и на экране возник огромный циферблат кремлевских курантов. Кортин налил шампанское в поставленные два бокала – ей и себе. Эту бутылку он покупал загодя по ее велению, как составную часть их вклада в предстоящую встречу Нового года у Мильчиных. Тогда, в начале ноября, после еще одного курса химиотерапии, у них было почти три недели надежды. И он поверил, что процесс остановлен, достигнута прочная ремиссия. В действительности же эта химия была кратковременным медицинским камуфляжем, обернувшимся угрожающим изменением состава крови; причем врачи знали о неизбежности такого оборота, но применяли этот препарат по имевшейся у них инструкции – для собственного профессионального успокоения и обнадеживанья больных и их близких. Не могла же передовая советская медицина признаться в своем бессилии, даже перед раком.
Под полуночный бой курантов, возвещавших наступление Нового 1979 года, он выпил свое шампанское, глядя на бокал Дуни и думая о том, что здешнее летоисчисление уже потеряло над нею власть: она не зависела более от времени суток, дней недели, времен года, была вне земного торопления, здешней суеты, маеты, мелкости. Но, должно быть, по-прежнему принимала эту жизнь, говоря привычным языком, близко к сердцу, держала в своей душе. И оставалась с ним, в нем. Ж и в и! – написала она ему в своем последнем письме-завете, зная наперед, как он будет убит ее смертью. Это письмо, написанное за десять дней до конца, когда перед нею во всей неотвратимости разверзся тот конечный обрыв, было не о себе, не о своей смерти, оно было о нем, о его жизни – молением и напутствием. Она знала, что она есть для него. Но в том-то, думал теперь Кортин, и заключается трагедия любви в здешней, земной жизни, что приходит неизбежный момент, и один из любящих должен первым отдаться своему кресту и, оставляя другого, понести этот крест на свою Голгофу.
Он сидел, как обычно, в кресле справа от журнального столика, убрав звук телевизора и поглядывая на другое кресло, слева, в котором всегда сидела Дуня. И сейчас он ощущал ее присутствие рядом с ним, хотя кресло было пустым. Наверное, ее присутствие не связывалось теперь с какой-то определенной вещью или местом. Потом он выпил еще бокал с мыслью о том, что если ему жить дальше, как велела Дуня, то пусть Бог даст ему на это силы, и пусть он, Герберт Кортин, выполнит все, что она написала ему в своем последнем письме.
Около часу ночи он позвонил Мильчиным, чтобы поздравить «честную компанию» с Новым годом, пожелать им всем здоровья и счастья. Подошел как раз сам Лазарь, но не узнал его с первых слов – был возбужден, хозяин застолья, захвачен тем круговоротом, да и выпил уже. Говорили они недолго и без какой-либо сердечности со стороны Мильчина, мысли его были сейчас далеки от Кортина, а, может быть, и он, как Лидия, также «не одобрял» его. В трубке слышались возгласы, шум, смех – тамошний поезд шел полным ходом не только без Дины, но и без него, Кортина.
Он включил звук телевизора, в котором на всю страну передавался один и тот же заранее подготовленный и заснятый новогодний «Голубой огонек», происходящий будто бы в эту самую ночь. На экране вскоре появилась поэтесса Беллочка Ахмадулина, их с Дуней любимица. Затем, как по заказу, выступала актриса Татьяна Доронина, тоже Дунина симпатия. Дуня любила ее за женственность, искренность, певучесть, и была огорчена, когда та неудачно снялась в роли женщины-ученой в надуманном многосерийном фильме. Играть ей там было нечего, она лишь многократно переодевалась из серии в серию, как манекенщица, и Кортин осудил ее тогда за измену самой себе. Дуня молча с ним соглашалась – во имя объективности, но из сердца не изгоняла, и Кортин, глядя на нее, напомнил себе пушкинские слова: «Там нет истины, где нет любви». Потом еще пела Шульженко, которую по своему армейскому прошлому продолжал почитать Кортин, а Дуня не оспаривала то хорошее, что ему виделось в ней, хотя сама относилась к этой исполнительнице прохладно.
Он заметил за собою: что бы он ни видел, ни вспоминал, ни думал сейчас, он видел, вспоминал, думал и за себя и за Дуню, смотрел на все вокруг и ее глазами, оценивал и ее оценками. Он чувствовал ее присутствие в себе. И в то же время, глядя на экран телевизора, он осознавал, что все зрелище проходит уже без ее участия – без ее живого слова, отклика, улыбки, ответного поворота головы к нему, воспроизводимых теперь только в его душе. А сама жизнь шла без нее. Может быть, она и видела эту их продолжающуюся земную жизнь откуда-то со стороны, но никакого прямого участия в ней не принимала. Не могла. Только через те души, в которых она здесь оставалась. Через его душу. Он вспомнил, как говорил ей о своих умерших отце и матери – что они живут в нем, что они живы, пока жив он, ибо одна душа, став бестелесной, может продолжать свое здешнее существование только в другой, близкой и родной душе живущего человека.
Так он просидел в своем кресле до утра, пока не закончилась передача. Он никому больше не звонил, и никто в эту новогоднюю ночь не позвонил ему.
Его поднял с постели звонок почтальона в дверь. Из Ереванского издательства возвращали его фотографию, которую он недавно – в момент обнадеживающего просвета в болезни Дуни – послал туда вдогон с просьбой поместить в своей книге. Книга издавалась в переводе на армянский язык, и он полушутя мотивировал эту тщеславную просьбу тем, что хотел бы иметь зримое подтверждение своего авторства для друзей и знакомых, не умеющих читать по-армянски. Заведующая редакцией сообщала, что книга уже пошла в производство и вставлять портрет поздно. Кортин подумал, что смогли бы, наверное, и успеть, если бы постарались. Но все равно подобный отказ не так уж и плох – лучше, чем возврат из журнала его новой повести год назад, тоже в январе, в самый день его рождения. А нынешнее известие могло считаться даже новогодним подарком.
Выпускаемая книга была делом счастливого случая: во время поездки в Болгарию, в Международный дом отдыха журналистов, он познакомился с директором Ереванского издательства советской литературы, и тот широким восточным жестом пообещал переиздать книгу его армейских повестей. Несколько экземпляров ее Кортин захватил с собою для презента болгарским журналистам, к которым его адресовали в Софии московские знакомые. Подарил и тому директору – по образовавшейся между ними взаимной приязни и не без авторского расчета. Расчет оправдался. Директор заявил, что пустит его книгу по юношеской редакции. Она, как позднее догадался Кортин, подходила для «военно-патриотического» раздела в их издательском плане, и директору было с руки заполнить одну из тех обязательных граф повестями, апробированными в самом Воениздате в Москве. Так что не только сердечное расположение двигало им. Сработала советская издательская схема плюс знакомство двух людей, оказавшихся вместе на Солнечном берегу. А у него самого уже сгладилась острота переживаний в связи с той мясорубкой, через которую пропустил воениздатовский редактор эти повести, особенно последнюю, «заполярную». Он избегал перечитывать покалеченную повесть, а всю книгу воспринимал теперь отвлеченно, как необходимый и столь желанный для пишущего человека «факт издания». Книга на армянском языке должна была стать еще одним таким фактом, дополнительно престижным из-за перевода на другой язык.