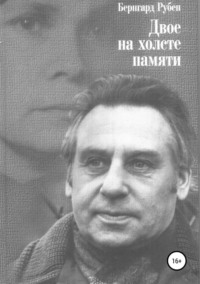
Двое на холсте памяти
Вся хитрость заключалась в том к а к сопротивляться. Нельзя было допускать прямой конфронтации, тем паче скандала. Здесь дело проигрывалось напрочь – автор сразу становился «антисоветчиком», «психом», «хулиганом». Сопротивляться надо было спокойно, миролюбиво, даже улыбчиво и, если уж не вовсе по-христиански, то запрятав подальше всякую неприязнь, почти по-свойски. После Воениздата Кортин обрел долготерпение, так трудно дававшееся ему прежде, и не запаниковал, когда теперь рукопись сборника несколько месяцев выдерживалась, как под домашним арестом, в сейфе главного редактора из-за того, что он не соглашался на предложенные изъятия. Заведующая редакцией предупреждала его, что книга выпадает из плана, что никаких дальнейших гарантий на ее издание они не дают; давили и по финансовой части, не выписывая полагавшихся денег и подавая тем самым еще один предупредительный сигнал. Но он тоже брал их измором, дипломатничал, удивлялся, спрашивал простодушно «почему?», когда видел, что главлитовское насилие дополняется местным перестраховочным произволом. В отчаянный момент он включил в дело вдову Раткевича, и они написали обстоятельное официальное письмо главному редактору, чтобы отстоять – от нее же – два важных для сборника материала. Эта его последняя ставка имела в виду чиновничью психологию, на которую официальная б у м а г а всегда оказывала наибольшее воздействие. Только Дуня знала, чего стоила ему вся эта нервотрепка. Но то был его окоп, в котором он засел, мелкий окопчик, частный, он тут никак не преувеличивал, но все равно – его точка сопротивления…
Вместе с вдовой Раткевича раз он был в издательстве в ноябре, в тот просвет после обострения болезни Дуни, когда казалось, что они выскочили из сжимавшегося кольца. Он привез редактору несколько остававшихся у него воспоминаний фронтовых друзей Раткевича, причем часть этих материалов стилистически правила Дуня. В издательстве ему, наконец, объявили, что сборник запускается в набор. Письмо сработало. Тактика его оказалась верной. Главный редактор отступилась от сборника. Ее заместитель, сравнительно молодой и новый в издательстве человек, которому после долгой задержки была передана рукопись для окончательной чистки, проявил себя гораздо либеральнее начальницы; он спокойнее смотрел на былые литературные страсти и в рамках дозволенного действовал без самоуправства. Конечно, кое-что Кортину пришлось уступить, но это была все же небольшая толика того, на что свысока и так лихо размахнулась главный редактор, не ожидавшая вообще какого-либо сопротивления от неизвестного литератора. И это был для него некоторый реванш за те потери, которые он понес при издании своей книги в Воениздате.
Посещение издательства подтолкнуло его к работе. Он принялся опять за повесть, начатую около двух лет назад, но не доведенную и до половины. Повесть тоже была о Раткевиче. Она уже стала для него исключительно важной, даже предопределенной ему. Но когда он приступал к сборнику воспоминаний о Раткевиче, у него и в мыслях не было ничего подобного – только мемуарная книга, составляемая в благодарную память. Потом, по мере погружения в обширный материал, он, конечно, загорелся собственным анализом его жизни и характера. Особенно захватывающими были письма самого Раткевича и относящиеся к нему документы периода войны, которые вдова опубликовала цельной подборкой десять лет назад и которые Кортин прочел лишь теперь. Однако и на этой стадии он еще не думал ничего писать о нем – кроме тех давних своих страничек об их первой встрече, посланных вдове после смерти Раткевича. Он был уверен, что все его попутные психологические «размотки», сделанные спустя столько лет, давно раскрыты друзьями-писателями, близко соприкасавшимися с Раткевичем многие годы. И ждал непременного поступления в сборник этих материалов. А прежде всего он нетерпеливо ожидал подтверждения одного своего открытия, ставшего для него очевидным в судьбе Раткевича. И как раз именно такого истолкования не оказалось в мемуарах даже тех друзей Раткевича, кому все карты были в руки, чтобы блестяще написать об этом. Да, они блестяще написали о Раткевиче, но не о том, о чем думалось Кортину. Они писали о своем. Втайне он надеялся, что так и получится. Вот тогда, словно по разрешительному знаку, и вырвалось наружу исподволь созревшее в нем желание самому воссоздать жизнь Раткевича. Наверное, это было неизбежно после того, как он вобрал в себя столько материалов. Ведь он был не из литературоведов, кто чаще всего и составлял подобные сборники, а какой-никакой, но сочинитель повестей.
У него сразу возник напряженный сюжет, придумалось нужное название и быстро проработался подробный план всей повести. И тут же на одном дыхании, он написал тогда две большие главы. Он писал с воодушевлением, чувствуя, что наконец-то выходит – впервые! – на широкий литературный простор, за локальные рамки своих армейских повестей. Но потом на них с Дуней обрушились ее повторные операции, а еще надо было сдавать в издательство сборник самих воспоминаний о Раткевиче, та рукопись занимала письменный стол, и работа над повестью пошла урывками, пока не оборвалась совсем…
Он листал написанное, восстанавливая для себя, будто далекое прошлое, детали, внутренние связи, общее течение повести, все, что было там уже сделано и намечено в его прежней жизни. Он вошел в работу, кое-что дописал, переставил по своим наметкам, почувствовал вновь атмосферу всей вещи и живительную для него силу самой работы. И в то же время он вдруг с недоумением заметил, что литература сейчас не самое главное для него, как он считал всегда, а лишь один слой его существа. Произошло какое-то вулканическое перемещение и обнаружилось, что сокровенность его души связана прежде всего с Дуней. Это пока она была жива, ее присутствие привычно воспринималось им как бы извне, через свою повседневную самостоятельность. Теперь стала явной сама суть, которой он жил и живет.
Он смирялся с тем, что Дуня телесно отделилась от него, что она находится за каким-то своим пределом, и эта грань между ними никогда уже не даст им быть вместе физически, сойтись рука к руке, сесть рядом, ощутить тепло друг друга, живую, реальную их совместность. Но с неменьшей реальностью он чувствовал, что душа ее витает около него, сопровождает, печалится, видя, как он тяжко горюет, судит себя, как колотится о муторный быт, одиноко и неприкаянно идет по улице, под вечер забредает в какую-нибудь закусочную или столовую, машинально жует там что-то несъедобное и продолжает свой одинокий путь. Но видит все это она уже с безмолвной и вышней грустью т а м о ш н е г о понимания здешней жизни с данными людям законами и неизбежными их страданиями. И он понимал, что она, его любящая и любимая Дуня, имеет право смотреть так, со стороны, потому что сама уже перешагнула тот таинственный рубеж, который для живых непостижим и пугающ, а для многих страшен до ужаса, даже до помешательства. Он думал о том, что каждому в свое время предстоит перейти этот рубеж земного бытия – перемахнуть легко, сразу или переползти с мучениями. Ее отважная душа свободно вылетела из тела, которое неотступно сжали тиски физического разрушения. И теперь он, Кортин, на себе испытывал завораживающий искус, тысячелетиями будоражащий ум людей, – установить связь, представить себе, постичь тот мир, в который ушло твое любимое существо и в который в назначенный срок переместишься сам.
Он спрашивал себя: что есть человек? Тело? Но оно бренная основа, имеющаяся у всякого животного, начало наших плотских потребностей, вожделений, чувствований, пусть и весьма утонченных в развитии. Ум? Тоже нет, ибо собственно ум, «голый интеллект», лишен морального вектора, безразличен к нравственности и в качестве аппарата познания, управления, изобретательства может быть употреблен как на добро, так и во зло. Главное в человеке, ядро, средоточие всей его натуры – душа, каковой она в нем образовалась и развилась. Вот его непреходящая сущность, дающая направление и его телу, и уму. И благословенны души, в которых светится Добро и Любовь.
Он чувствовал душу Дуни рядом с собой, в себе. Это был освободившийся от больного тела чистый и святой ее д у х, она сама, суть, весь сгусток ее. Но одновременно перед его глазами стоял ее зримый образ, какою она реально была в жизни, – ее улыбка, тянущиеся к нему при встрече губки, вся ее фигурка, вызывающая у него нежность и бережность, ее речь, взгляд, голосок. И ее бесплотный дух был непредставим без ее действительного образа, ставшего ему привычным и милым, несмотря на физический недостаток.
Он жил в неустойчивом состоянии, как бы ожидая, куда толкнет его внутренний маятник, и не сопротивлялся ни этому своему пассивному ожиданию, ни любому возможному исходу. Костер собственного суда не разгорался более с пожирающей силой, только тлел. Работа принесла отраду, в ней открывалась ему надобность и привязка к жизни, цель и средство жить. Это было и Дунино завещание, и его жизненный обет – написать свое главное. Но горе не отпускало, а работа не заполняла образовавшуюся пустоту в душе, проходила вне ее. И пустота эта гасила его жизненные силы, пронизывала тоской небытия, лишала опоры в себе. Спасение от ее холода могло дать только человеческое тепло, и он каждодневно надеялся на живительный обогрев от встречи с приятелями, ждал их прихода к себе или зова к ним. В молодости он всегда заставлял себя «держать марку». Сейчас он не ставил перед собою задачи во что бы то ни стало выглядеть молодцом и скрывать ото всех, как ему тяжело. Но и просить самому помощи у кого-либо было для него невозможно. Он ни к кому не напрашивался в гости, не звонил с отчаянья, когда не находил себе места и готов был завыть дома от тоски. Он упрямо полагал, что и так всем видно, что с ним творится, и тот, кто хочет поддержать товарища, должен это сделать по собственному побуждению. Как делал это всегда он сам.
Однако нынешние его друзья-приятели отделывались редкими телефонными звонками и не торопились повидаться с ним. На неделе все они были заняты на службе и спешили домой, чтоб отдохнуть, а в субботу и воскресенье их поглощали давно намеченные и неотложные семейные дела.
Спрятаться от одиночества в первые выходные дни после Нового Года, когда он особенно ждал общения с кем-либо из них, ему помогла работа. Но дружная отстраненность приятелей больно задела его. Чтобы не поддаваться обиде, он поиронизировал над человеческой природой. Конечно же, невесело навещать товарища, у которого горе; и коли к себе позвать – оно притащится вместе с ним, нарушит мир твоего дома. Вот и способнее каждому из них предположить, что кто-то другой наверняка уже обогрел страждущего, а себе назначить следующий раз. Не зря говорится: Иван кивает на Петра…
Проявившееся все же раздражение на приятелей вызвало у него недовольство собой. И тотчас вспомнилось, как Дуня одним своим присутствием поворачивала его к терпимости, мягкости, большей доброте к людям, даже если они были неправы. Она никогда не спорила с ним, слушала его доводы и рассуждения, принимала, казалось, их бесспорность, предоставляя в то же время ему самому, отойдя от прямой логики и твердых принципов, прислушаться к своему сердцу. А он слушал ее сердце, которое не соглашалось с его максимализмом в отстаивании истины, но и не противостояло ему, ибо любило его таким, каков он есть. За то, наверное, и любило. Ему подумалось теперь о другой крайности: никого, ни за что, никак не суди. Но эту мудрость и в нынешнем своем положении он отверг – он не намеревался судить, он не мог не иметь своего суждения.
Среди дел, которыми он старался себя загружать, была почти ежедневная езда в Измайлово. Больше ему и некуда было ехать. В Замке он не чувствовал своего одиночества. Здесь Дуня была ближе всего к нему. Все в доме было пронизано ею, несло на себе прикосновение ее рук, находилось под ее взором, служило ей и получало от нее полагающуюся хозяйскую заботу. Здесь он не размышлял о своих друзьях-приятелях. Садился на диван или в ее кресло и на какое-то время обретал устойчивость, как одинокий измученный пловец, очутившийся на островке, где он мог передохнуть, но не имел права оставаться надолго. Потом понемногу укладывал в картонные коробки кое-какую утварь на кухне. Он помнил о сроке передачи квартиры, но все еще сохранял ее внешний облик.
Каждый раз перед тем, как подняться сюда в лифте, он по обыкновению заглядывал в Дунин почтовый ящик, и в один из вечеров достал письмо. При тусклом лестничном освещении он разглядел лишь то, что оно адресовано Е.А. Никольской. А войдя в квартиру, обмер: конверт был надписан Дуниным почерком. Сама себе пишет! Но он быстро нашелся, вспомнил, что это, наверное, извещение от тех бескорыстных добродеев, которые у себя на дому производят милил, грибок, во многих случаях, как шла о том молва, способствующий рассасыванию раковых опухолей. Фамилия этих людей, мужа и жены, была известная на слух, из ученого мира, немецкая или еврейская; говорили, что кто-то из них из семьи академика, что они многажды обращались в министерские инстанции с этим своим милилом, чтобы там официально проверили его свойства, убедились в пользе и наладили промышленное производство, как лечебного средства; но ответ получили отрицательный – мол, не лекарство это от рака, а простоквашка. И тогда они сами в домашних условиях стали регенерировать этот грибок, благо в министерском заключении он признавался не только бесполезным, но и вполне безвредным, и бесплатно, по строгой очередности выдавать всем, кто у них просил. Обращаться к ним велели только письменно, дабы придать доброму делу нужный порядок и не превратить свой дом в проходной двор. Очередь установилась огромная. Судя по всему, они были истинно интеллигентными людьми и подвижниками, и выдавали свой милил бесплатно не только потому, что опасались нарушить официальное постановление о бесплатных лекарствах для онкологических больных и тем дать властям повод преследовать их, но также из чисто нравственных побуждений. Единственное, что они требовали, это вложить в направляемое им письмо пустой конверт с маркой и надписанным адресом просителя – для извещения его о том, когда и куда приехать за лекарством, – избавляя себя от лишней писанины и почтовых расходов.
Дуня посылала им письмо летом, но забыла, как потом призналась, вложить пустой конверт и потому не попала в очередь, этот порядок там блюли автоматически. Но тогда она пользовалась милилом, который Кортин привозил от знакомых, где в доме была та же беда. Вскоре тот милил кончился, вернее, как они все посчитали, потерял свои качества от неумелого самодельного воспроизводства. И после затянувшегося перерыва, что было еще одной их халатностью, уже глухой осенью, не получив ответа на давно посланное Дуней письмо, он сам поехал по имевшемуся адресу, и там вежливая, но немногословная женщина, промежуточное лицо, стоящее на страже дома, не вступая в объяснения, посоветовала написать еще раз…
Так оно и оказалось: «Приезжайте за милилом 14 января в 3 часа по адресу…» Кортин снова взглянул на конверт. Еще один укор этому свету от Дуни, надписанный ее рукой. Косвенный укор, ибо сама она никогда не роптала, никого ни в чем не обвиняла. А милил, если бы его принимать регулярно и длительно, помог бы ей. Запоздалое подтверждение его лечебных качеств укололо Кортина в разгар осеннего обострения, когда он за немалые деньги покупал у одной ученой дамы со званием члена-корреспондента медицинской академии препарат вакцины, разработанный при ее активном участии для других, не онкологических, болезней. Теперь она выдавала эту вакцину и за панацею от рака. У этой дамы имелась специальная подручница для практических консультаций на дому, врач, знавшая, судя по ее саморекламным словам, все ходы и выходы в Главном онкологическом центре, где она работала прежде, и уклонявшаяся назвать место, где она работает ныне. Кроме денег за сам визит, она, прощаясь, хватко вытребовала у Кортина еще дополнительную сумму под видом оплаты ее езды в такси. Хотя станция метро находилась в пяти минутах ходьбы, и было ясно, что ловить такси на трассе в другой стороне от дома Дуни она не станет. Вот эта-то оборотистая толстуха, пахнущая потом, уточняя ему схему применения вакцины, с минутной доверительностью и заявила вдруг: «Зря вы прекратили принимать милил». Это прозвучало как явное признание милила, бескорыстно предоставляемого больным интеллигентами-подвижниками, и, в сущности, перечеркивало лечебную ценность вакцины, на которой зарабатывала ученая дама со своей артелью.
Все это вспомнилось ему сразу, когда он, стоя в пальто в прихожей, перечитывал лаконичные машинописные строчки, указывающие на еще один возможный, но упущенный шанс спасения Дуни. Он разделся, вошел в комнату, сел в ее кресло, но никакого устойчивого островка под ним уже не было. Только давящая отовсюду тяжесть. У него разболелось сердце, и он с трудом вернулся домой к ночи.
И днем он недомогал, прекратил работу, лежал, дочитывая роман Каверина в «Новом мире». Никто из приятелей ему не звонил, он пролежал весь день в одиночестве, не работал больше, не вышел на улицу, не брался за свой дневник. Конверт с запоздалым извещением вышиб его из наметившегося было шаткого равновесия, внутренний маятник вдруг заходил размашисто и беспокойно. Его опять закачало, почва ушла из-под ног, все переживания обострились и подобрались в единый беспросветный ряд – тяжесть самообвинения, удушье одиночества, обида на приятелей. Он чувствовал свою посторонность окружающему миру, и мир этот также казался ему чужеродным, потому что в нем не было Дуни.
У него продолжало болеть сердце и ныли, не переставая, левое плечо и рука, выделившись изо всего тела в замкнутую недужную зону. Он почти не выходил из дому и укладывался поздними вечерами в постель с мыслью о том, что не проснется утром – не выдержит сердце, оборвутся последние ниточки, связывающие его с этой жизнью. И он думал, что это был бы вполне закономерный исход. Ведь говорили же в старину: «Умерла (реже – умер) от разбитого сердца». Врачей он не вызывал, лекарств не принимал, за жизнь не цеплялся. Страха он не испытывал, и был этим удовлетворен. Очевидно, приятие своей участи отодвигало страх. И суету. Но наступал еще один день, затем еще один. Его жизнь продолжалась, и как видно, это тоже было пока его участью.
Он возобновил поездки в Измайлово. Его тянуло туда, в Замок. Там ждали его дела, которыми он должен был заниматься несмотря ни на что. Однако за внешним ходом продолжившихся дел он сознавал, что двигается по некоему предначертанному пути, ожидая своей конечной участи, что не волен в себе. И действительно подошел к тому январскому дню, ставшему для него достопамятным.
Это была пятница. Еще одна пятница. С утра у него ныло сердце, он лежал до полудня, потом записывал в дневник, подытоживая свои размышления об отношениях с людьми. Но думал теперь не об их черствости, а о надобности самому быть терпимым и добрым, помнить, как относилась к людям Дуня. Вот в чем был корень: нельзя раздражаться, нельзя никому предъявлять претензии, пусть даже самые справедливые. Тем паче в его состоянии, когда сил у него ни на что не осталось, только бы самому устоять и за работу приняться; а другие – пусть живут, как знают, жизнь сама их научит и прояснит что нужно. Ты же помни даденое, не пеняй недоданным…
Он немного разошелся за этими записями и поехал в Замок, где должен был встретиться с Ниной Григорьевной. Она все еще отбирала для продажи Дунины вещи. И пока он находился в Замке не один, упаковывал на кухне посуду, а Нина Григорьевна занималась платяным шкафом, этот январский день вроде бы не выходил из ряда других – такой же день, как и предыдущие, ни легче, ни тяжелее, обычный теперь. Но вот Нина Григорьевна ушла, и что-то быстро изменилось. Все вокруг него и внутри, сомкнувшись, стало ощущаться непомерным раздавливающим его грузом. Он точно попал в двойной пресс, который в своем встречном движении проходил сам через себя и потрошил таким сквозным образом его существо. И когда ему сделалось совсем невмоготу, он, не в силах понять, что с ним происходит и куда ему бежать, остановился посреди комнаты и спросил вслух:
– Дуня, ты влечешь меня за собой? К себе?
Спросил без сопротивления, чтобы знать. Совершавшееся с ним должно было быть связано с нею, с ее тамошним нахождением, в этом он не сомневался. И вскоре ему стало чуть легче, смертельная тоска несколько отпустила его. Дуня помогла, извернулась, подумал он. Он почувствовал, что сама она не тянет его за собой, что ее завет – «Живи!», как она написала ему. Но сжимавшие его тиски оставались, он был в их власти и не ведал, надолго ли хватит ее облегчительных усилий. Мелькнула мысль, что теперь он сам должен помочь себе. И все старания его сразу устремились к тому, чтобы побыстрее выбраться из Замка, попасть в свои Сокольники, там, верилось ему, он окажется в безопасности. Он не медля, по-военному четко, как бывало в полку по тревоге, собрался, вышел из квартиры. На улице, в те несколько минут, что отделяли его от метро, он настороженно следил, как опустошенность и зыбкость его разваливающегося земного существования двигаются вместе с ним невидимой и погибельной тенью, которая никак не отставала, но почему-то и не набрасывалась на него в этом удобном, темноватом и пустынном, месте, чтобы поглотить окончательно. Что-то мешало такому ее последнему прыжку. И он даже почувствовал вдруг упругость своего шага. У входа в метро он подумал, что спасся, здесь было светло, были люди, следовавшая за ним тень, должно быть, не могла сюда войти. Но когда он спустился и сел в поезд, его угнетение опять усилилось, он явственно ощутил, что теряет себя, что в нем больше нет Дуни, ее душа покинула его, и он стал теперь беспомощным одиночкой. Тем не менее, он продолжал ехать, думая только о том, как бы перетерпеть весь этот разлом его естества, дотянуть до дома, до своих стен. Но на широких каменных ступенях перехода со станции «Арбатская» к своим Сокольникам он с холодным ужасом внезапно осознал, что его самого уже нет на свете. Да, он перемещался, шел в своем тяжелом ратиновом пальто, в зимней меховой шапке, спускался по каменным ступеням, занимал место в пространстве, и никто из встречных или идущих следом людей на это место не заступал, видя, что тут есть человек, плотный по виду мужчина. Но сам-то он совершенно точно з н а л, что никакого человека здесь на самом деле нет, что это одна видимость, ибо у него не стало собственной души, что душа его в тот момент уже устремилась вослед за Дуниной душой, и ему предоставлялось теперь лишь оцепенело взирать, как свершается здешнее уничтожение его бренной оболочки. Он был во власти господствующих над ним сил, которые вынули из него душу, оставив невидимо кровоточащую пустоту в груди, и пустота эта распирает его с космической неотвратимостью, и вот он, все сознавая, ждет, что сейчас будет разорван и рассеян или просто испарится на этих каменных ступенях, не оставив на них никакого следа, отпечатка. И никто из окружающих даже не заметит его исчезновения – ведь его уже и нет среди живых, он уже по ту сторону…
А между тем он все продолжал спускаться по этим широким ступеням, с одной на другую, ожидая на каждой из них своего уничтожения, но не прекращая движения; потом он так же обреченно шел по платформе; потом стоял на этой слишком просторной платформе под высоким сводом станции, видный отовсюду, как на лобном месте, в ожидании поезда и того неизбежного, что все равно успеет произойти с ним до этого прибытия. Ни спрятаться, ни скрыться он не пытался. Ничего живого, человеческого в нем уже не оставалось, разве что вот это истошное понимание своего несуществованья и этот последний несуетный страх перед конечным физическим распадом. И все-таки он ждал поезда.
Он глянул в тоннель, откуда приближались шум и свет. Подошел сверкающий поезд. Стал вдоль всей платформы, раскрыл все двери, выпустил немногих в ту пору пассажиров и стоял с полностью раскрытыми дверями для тех, кому надо было садиться. Ничто не воспрепятствовало Кортину войти в него. И ничто не помешало потом закрыться за ним раздвижным дверям вагона, принявшего его в себя. Они сдвинулись с глухим ударом черных боковых прокладок из жесткой резины, напрочь отсекая его и от лобного места платформы, и от Голгофы широких каменных ступеней, спускавшихся к ней. Затем поезд тронулся и так же беспрепятственно покинул эту станцию.
Кортин сел, поставив на пол свой чемоданчик, достал из бокового кармана чемоданчика тоненький сборник стихов Новеллы Матвеевой – он всегда имел с собой какое-нибудь чтение. Он извинился, когда его чемоданчик на полу качнулся на ногу соседа, молодого человека с бородкой, вежливо ответившего ему на извинение. Тот тоже читал. Кортин ухватил на странице в его книге имя – Д’Артаньян. Словно ощутив в руке канат спасения, он воскликнул про себя: «Вот что я возьму сегодня читать перед сном!» Должно быть, некая добрая к нему сила, сохранив его в обход высшей и бесстрастной, вершившей общее предначертанье, но не вдававшейся скрупулезно в отдельные частности перевода душ в иной мир, теперь подавала ему и этот знак поддержки.

