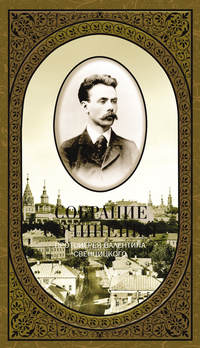
Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)
Чёрный зал, никого ни души, ни живых, ни мёртвых. Пусто, тоскливо – мучительно.
«Боже мой, ведь это вся жизнь пролетела. Хоть что-нибудь ещё бы. Нельзя же, чтобы так всё это кончилось…»
И вот из темноты что-то смутно веет на меня с вопросом и ужасом, словно плывёт откуда-то. Я холодею. Я не понимаю, что это, откуда это, мне жутко, мне хочется кричать… Бледный лоб, бледные щеки. Да это Он!.. Судорога схватывает мне горло. Я весь дрожу и в исступлении хочу кричать, сам не зная почему, трепеща от ужаса: не надо! Лучше конец… не надо, это обман. Лицо близко, сейчас увижу его из темноты, ясно, совсем ясно перед собой…
– Нет, нет Его! – с тоскою кричу я…
Гром аплодисментов. Соната кончена. Измученный, я озираюсь кругом. В глазах рябит, всё сливается и плывёт куда-то. Только совсем близко, около плеча, оживлённое, детское личико Верочки.
Мы вышли и пошли гулять по берегу моря. Молчали. Верочка нагибалась, подымала камни, бросала их, и они с коротким, глухим звуком падали в море.
Я не мог придти в себя. Он тяжёлым кошмаром ещё стоял в памяти, и страшное, ненавистное чувство продолжало щемить сердце. Это чувство было нелепо, непонятно и неожиданно для меня. Словно какая-то бездна тайн разверзлась предо мной, и я знал, что, заглянув, узнаю всё, и не мог, боялся, трусил, как щенок, хотя уже предчувствовал, что там жило и шевелилось.
Не помню, долго ли мы гуляли. Как сон теперь передо мной эта далёкая крымская ночь, с которой начались мои первые откровения о самом себе. Как сон было и тогда, когда я шёл с этими двумя, такими новыми для меня людьми в чёрную даль, по берегу моря, которое набегало и пенилось у наших ног. Мне чудилось, что я умер и новый мир, вечный мир, открывается предо мной, и меня ведут туда люди не мира сего.
«А я сомневался, будет ли вечная жизнь? Не надо теперь бояться смерти, не надо каждый миг думать о ней, уж эта жизнь не кончится никогда…» И хотя я сознавал, что думаю какую-то несообразность, что предо мною Чёрное море, что я на южном берегу Крыма, со своими новыми знакомыми, но от этих несообразных мыслей непривычная живая радость едва внятно начинала трепетать во мне.
III
Идиллия
Скоро мои новые знакомые уехали в деревню. Я обещал приехать к ним; и в конце июля, после беспокойной крымской жизни, полной самых сложных вопросов и сомнений, словно чудом попал в маленький, старенький домик, обвитый тёмно-зелёным густым виноградом, со старинными полутёмными комнатами, с тенистым задумчивым парком, в атмосферу тихую, радостную, где, казалось, никогда не было никаких тревог, никто не собирался умирать, и старенький домик, и старенькая старушка тётя, и почти ребёнок Верочка даже и не думали о смерти.
Я прожил там месяц. Это время занимает совершенно особое место в моей жизни. И я долго колебался, говорить или нет о нём в этих «Записках». Весьма возможно, что ничего важного, что помогло бы вникнуть в дальнейшую мою жизнь, там и не произошло. Но уж очень мне трудно теперь ничего не сказать об этих хороших и, уж конечно, безвозвратно ушедших днях – теперь, когда всё для меня в жизни кончено и впереди ничего, кроме подневольного, полуживого прозябания…
Этот месяц клином врезается во всю мою жизнь. Всё там было для меня необычно, и сам я в этот месяц как-то не совсем походил на самого себя. Ведь я тогда и не подозревал ещё всех предстоящих мне мучений. Наоборот, во мне, я очень хорошо это помню, начинала тогда пробуждаться смутная надежда на то, что наконец с меня спадёт этот нестерпимый гнёт страха смерти, я воскресну внутренне и почувствую наконец, что значит жить.
И даже теперь, когда я, кажется, перестал вообще чувствовать что-нибудь, я всё же не могу без сердечной боли вспомнить свою жизнь в полутёмном виноградном домике, а потому не могу хотя бы несколько слов не сказать о ней, тем более что, кто знает, может быть, всё-таки там впервые заговорили во мне – конечно, бессознательно – те чувства, которые потом дали толчок и направление моему «роману».
В Крыму я, можно сказать, не замечал Верочки, Николай Эдуардович поглощал всё моё внимание, но здесь его не было (он уехал за границу учиться), и на фоне затихшей старосветской жизни Верочку нельзя было не заметить. Она в высочайшей степени обладала основным свойством жизни – изменяемостью.
И перемены её были так резки, так внезапны и всегда так новы, что в её присутствии я с первых же дней потерял способность думать о смерти. Глядя на людей, я уже привык наблюдать их покойниками, я привык копаться в этом чувстве, как жук-могильщик. Но с Верочкой я справиться не мог. Мысль об её смерти не могла сгладить впечатление от её полудетских розовых губ, блестящих, ласковых и насмешливых глаз, чёрных мягких кудрей, которыми она очень походила на брата. Меня необыкновенно беспокоило это чувство, но было в нём ещё что-то и другое. Мне казалось, что я сам как будто начинаю оживать от соприкосновения с ней. Теперь я знаю, что это только казалось, что это было какое-то дьявольское наваждение, теперь я очень хорошо знаю, что даже самые оживлённые лица кончат всё тем же. Но тогда я все силы напрягал, чтобы поддаться этому новому чувству.
Ещё бы, мне и тогда так хотелось отдохнуть, хотелось «новой жизни»!
В виноградном домике всё, начиная от Верочкиной тёти, Александры Егоровны, кончая любой мелочью, заключало в себе какое-то необъяснимое внутреннее сходство. Всё было старенькое, тихенькое, привычное, но всё, можно сказать, насквозь пропитано жизнью.
Александра Егоровна была совсем такой же старушкой, какою, мне представлялось, будет Верочка, но и эта сухенькая старушка посматривала такими блестящими глазами, так звонко смеялась, как будто в её дряхлом тельце была спрятана такая же тоненькая девочка Верочка. Каждый предмет словно впитал в себя многолетнюю тихую, но радостную жизнь своей владелицы – каждый из них состарился, но жил без малейшей тревоги, и казалось, будет жить вечно. Пускай мы становимся старомодными, нам-то, мол, что за дело!
Единственный знакомый Александры Егоровны был давнишний её друг, чрезвычайно маленький старичок Трофим Трофимович Веточкин.
И в нём было всё то же необъяснимое сходство и с Александрой Егоровной, и с Верочкой, и со всем виноградным домиком.
Несмотря на свои шестьдесят лет, морщинистое почерневшее личико, совершенно голую голову, кое-где лишь покрытую седым пухом, он, подобно Верочке, можно сказать, трепетал от жизни.
Бегал с ней вперегонки и не очень-то уступал ей в этом, играл на гитаре и пел чувствительные романсы…
Верочку он любил, как дочь. Полюбил он и меня как-то сразу. Всё это было у него просто, без всяких мучений. Да вообще в этом домике жили просто, не было ни борьбы, ни страха, ничего болезненно-сложного.
Я поддавался этой простоте и отдельными моментами чувствовал себя так, как будто бы в жизни всё было очень просто и мило. Но, должно быть, я слишком привык за всякой обыденщиной видеть истинную страшную сторону внутренней человеческой жизни, а потому вполне не мог отделаться от своих прежних, наболевших, но на время замолкших дум. И тогда привычная жуткая грусть разливалась в груди, и во мне пробуждалось желание разрушить незаконный безмятежный покой, заставить всех бояться смерти, задуматься, страдать. В эти минуты я с досадой и почти завистью смотрел на Верочку.
Помню, как однажды мы поехали с ней кататься. Прежде я редко любовался природой. Она слишком пугала меня, я старался не замечать её. Должно быть, вместе с жизнью пробуждается и любовь к природе. С новым, почти детским чувством смотрел я на зеленоватое вечернее небо, на серебристое поле овса, на синеющий горизонт.
– Посмотрите, как низко ласточки летят, – сказала Верочка, – как это они за землю не заденут?
Я не люблю вопросов, даже самых пустяшных.
Каждый вопрос по ассоциации связывается у меня с десятком других и спускается до вопроса о смысле жизни, в который, хочешь не хочешь, в конце концов упираешься, как в глухую стену.
Я мельком взглянул на быстро скользивших ласточек, и вдруг, безо всякой видимой причины, и поля, и небо, и убегающая полоска дороги показались такими лишними, ненужными, как не нужна и вся наша жизнь.
Глупо раздражаясь, я сказал:
– А чего, спрашивается, летят они?
– Наверно, у них детки есть.
– А детки зачем? – раздражался я ещё более.
Верочка покосилась на меня и сказала:
– Как зачем? Затем, чтобы вырасти, летать. Разве без ласточек лучше было бы?
– Совершенно безразлично. Радоваться всякой твари имеем право только мы, верующие, – а вы ведь в Бога не веруете, значит, для вас нет ответа на вопрос «зачем они живут?».
– Ах ты, Господи, – нетерпеливо проговорила Верочка, – для чего живут. Для того же, для чего и все.
– То есть для того, чтобы умереть, – отрывисто сказал я.
– Совсем нет, умирают потому, что это необходимо, а живут для того, чтобы быть счастливыми.
– Да, но какое вы имеете право быть счастливой, когда всё уничтожится и вы не можете иметь ни к чему никаких привязанностей. Неверующие люди живут в номерах – со смертью для них конец всему: уехали из номеров и никогда не вернутся. Но разве можно любить то, что дано на два дня?
– Вот и неправда, – воскликнула Верочка. – Если жить в номерах один день, тогда, конечно, ни к чему привыкнуть нельзя, а если всю жизнь, так отлично можно, всё равно как на своей квартире. Вот вы здесь месяц живёте, и то уже к нам привыкли.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Полное собрание сочинений прот. Валентина Свенцицкого в 9-ти томах»; «Проповеди» (Казань: рукопись); «Шесть чтений о Таинстве покаяния и его истории» (машинопись).
2
Надежда. Франкфурт н/М. 1979. Вып. 2; 1981. Вып. 5.
3
Слово. 1991. № 10.
4
Диалоги. М.: Бр-во во имя Всемилостивейшего Спаса, 1993; К.: Киево-Печерская Лавра, 1994; М.: ПСТБИ, 1995; М., Саратов: Благовестник, 1999; Дивеево: Скит, 1999; М.: Даръ, 2005, 2007. Граждане неба. СПб.: Сатисъ, 1994; Дивеево: Скит, 1999; М.: Артос-Медиа, 2007; М.: Паломник, 2007. Монастырь в миру. Т. 1-2. М.: ПСТБИ, 1995–1996; М.: Лествица, 1999, 2003; М.: Артос-Медиа, 2008.
5
В частности, рассказ «Ноябрьской ночью» (Русская мысль. 1903. № 5) ошибочно приписан Свенцицкому В. И. Кейданом (ВГ. Прим. к письму № 6).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов