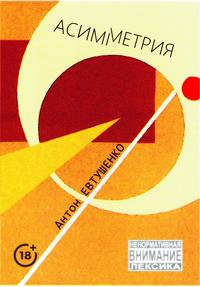
Асимметрия
Юлиана я увидел почти сразу, едва поднялся на второй этаж и повернул налево в сторону литературного кафе, где шоу под названием «Ух ты, живой писатель!» подходило к апогею. Литературный агент Сергея Владимировича стоял в стороне от центра событий и деловито щебетал по телефону. Он был одет с иголочки, как того требует бизнесэтикет: консервативный костюм в полоску, однотонная рубашка, под которую прекрасно шёл тщательно подобранный им галстук с рисунком синих и коричневых тонов, и элегантные лоферы с низким широким каблуком. Но всё же он был не столь солиден и авторитетен, как образчик делового стиля в исполнении Лунина, который собственно и был тем самым эпицентром. Уверен, что со стороны Юлиана это был тонкий расчёт с прогибом в сторону начальства. Литературный агент понимал, что должен выглядеть безупречно, но всё же чуть-чуть хуже, чем шеф – менее изысканно, недостаточно дорого, одним словом, исполнять психологическую роль «страшной подружки».
Лунин сидел на сцене перед аудиторией, вальяжно развалившись на стуле. Рядом с ним стоял журнальный столик, на котором возвышалась стопка «Го-стронгов» в красочных суперобложках. Рядом с книгами стояла табличка, представляющая гостя. По забитому людьми залу, огибая столики, нервно бегал худощавый модератор, пытаясь вырвать из толпы наиболее интересного персонажа. Когда селективный отбор, наконец, происходил, модератор тянулся к человеку, пытаясь подсунуть под его лицо микрофон.
– Уважаемый Сергей Владимирович, – раздалось в динамиках, когда микрофон настиг цель, – во-первых, спасибо вам за ваше творчество! Я читаю взахлёб всё, что вы пишете и искренне поражён вашей работоспособностью! Всем бы так! Известно, что авторы идут на разные ухищрения, чтобы обуздать свой творческий процесс. Например, Хемингуэй злоупотреблял спиртным и даже позволял себе работать с похмелья, а вот Мураками, наоборот, не пьёт и не курит, занимается бегом, слушает музыку, утверждая, что повторяющийся режим помогает ему лучше погрузиться в транс.
– Рад за обоих! – улыбнулся Сергей Владимирович. – А в чём вопрос?
Я встретился взглядом с Юлианом, но тот сделал страшные глаза и потерял ко мне всякий интерес.
– Мой вопрос такой: как вы строите свой творческий процесс, точнее, как вы заставляете себя работать? Какие у вас, так сказать, методы погружения в необходимое для творчества состояние?
– Знаете, – чуть помедлив, ответил Сергей Владимирович, – открою страшную тайну присутствующим: для написания книги, скажем, не только книги, а любого продукта творчества не нужно вдохновение. Музу придумали лодыри, чтобы найти оправдание своему безделью. Всегда же есть бьющий наотмашь аргумент: нет вдохновения – и точка. Применительно к писателям скажу, что нельзя не писать неделями, чтобы потом сесть и накатать полкнижки за ночь. Так не бывает! Истинная формула вдохновения – это каждодневное погружение в иллюзорную реальность не по велению музы, а по требованию распорядка дня. Человек искусства тоже ремесленник, между прочим. И с этой мыслью надо свыкнуться, смириться, прежде всего, самому автору. Я считаю, если ты носишь гордое право называться писателем, будь добр, доказывай это на бумаге по восемь-десять часов в сутки, а не от случая к случаю. Вот так!
– Спасибо, – пропел фальцетом модератор, – по-моему, замечательное наблюдение. У нас остаётся последний вопрос и мы, как было заявлено в начале дискуссии, переходим к завершающей части нашей презентации, где писатель Сергей Лунин сможет каждому желающему оставить автограф на экземпляре его нового иллюстрированного изложения романа.
Модератор окинул зал беглым оценивающим взглядом. Каким-то неведомым чувством я заставил его задержаться на мне и резко вскинул руку вверх, давая понять, что у меня есть вопрос.
– А у нас есть последний вопрос! – выкристаллизовал мою мысль ведущий и устремил свой микрофон ко мне.
– Добрый день! Адам Варашев, – представился я, и Лунин тут же узнал меня. – Моя профессия, Сергей Владимирович, требует, в отличие от вашей, не творческих усилий, а чисто механических, связанных, прежде всего, с проверкой текстов на соответствие нормам языка. Я корректор и суть моей профессии проста, что, впрочем, не умаляет её значимости: ошибки и опечатки делают даже самые грамотные люди – по невнимательности, из-за большой загруженности или высокой скорости работы. Так вот, даже если представить, что вы трудитесь по 8-10 часов в день и сопоставить это с тем объёмом текста, который выходит из-под вашего пера, то получается, что ваш темп, чтобы успевать, должен составлять не меньше 10 тысяч символов в час, и это без перерывов на туалет, прием пищи и раздумываний над сюжетом. Далеко не каждый корректировщик похвастает такой скоростью проверки текста, не говоря уже о его создании с нуля. А мой вопрос такой: ваши корректоры справляются с работой?
– Любопытный вопрос, – засмеялся Лунин, и этот смех мне показался слишком самоуверенным. – На вашем месте, господин Варашев, я бы адресовал его издателям «Гризли Бука». Именно это издательство занимается всей предпечатной подготовкой моих книг. Я думаю, вы сможете получить там компетентный ответ. Но если вам интересно моё мнение, то я скажу: да. Думаю, что справляются, ведь это профессионалы своего дела. Уверен, вы понимаете меня.
– Даже больше, чем вы думаете, – ответил я с жаром, и прежде, чем микрофон успел оказаться в руках модератора, бросил на прощание: – Только непонятно, отчего с профессионалами своего дела расстаются, как с неэффективными и ненадёжными работниками? Чем они заслужили такое отношение к себе?
– С ума сошёл, что ли! – зашипел мне в ухо подоспевший Юлиан и быстро оттащил в сторону книжных баннеров. – Что ты хочешь этим доказать?
– Отпусти! – Я вывернулся из цепких объятий Юлиана.
– Мы обсудили всё по телефону. Зачем приехал?
– Книгу подписать!
– Какую книгу?
– Например, вот эту!
Я схватил с полки «Рождение Басилевса» и демонстративно прошёл на кассу. Юлиан не отставал.
– Шестьсот семьдесят, – пропела девушка, считывая сканером штрих-код товара.
– Да, пожалуйста, по карте, – сказал я, прикладывая банковскую карту к терминалу.
– Заканчивай этот цирк! – устало сказал Юлиан. – Зачем ты на ровном месте создаёшь себе проблемы?
– Ты о чём? – я зашелестел перед лицом Юлиана фирменным пакетом с покупкой. – Я всего лишь хочу подписать книгу у автора. Мне очень нравится, как он пишет. Действительно!
– Да, я понял, только ты ничего не добьёшься. Забудь, просто забудь. На твоё место уже взяли другого человека.
– Значит, всё-таки серию не закрыли, – я стиснул зубы, – закрыли меня!
– Адамчик, я тебя отлично понимаю. Это обидно, да, но так бывает… отнесись к этому, как к возможности что-то изменить в своей жизни к лучшему.
– К лучшему, Юлиан? Ты говоришь, к лучшему? Ты грёбаный сказочник! Ты Христиан, мать твою, Андерсен. Вот, кто ты! «Шаманика» написана на треть. В конце месяца мне платить за квартиру. Чем? Распечатками никому не нужных текстов? Меня просто выставят за дверь на улицу. А что дальше: обратный билет в Пижанку? Это, по-твоему, изменит жизнь к лучшему?
– Так, стоп, – Юлиан поднял ладонь, – я повторяю ещё раз: договор остаётся в силе. Ты в штате, никто тебя не увольняет. Во всяком случае, пока. Оформим тебе через бухгалтерию оплачиваемый отпуск на месяц. На первое время сможешь подлатать финансовые дыры. Нет, – Юлиан восторженно сам себя прервал. – Сделаем лучше: выпишу тебе премию из фонда. Лично поговорю с Луниным, всё объясню. Он пойдёт на встречу.
– Какую премию, Юлиан? – спросил я устало. – Пулитцеровскую или Нобелевскую, а?
– Ну, чего ты кривляешься? Я же для тебя стараюсь!
– Ты для себя стараешься! Думаешь, я не понимаю, что за этими обещаниями не стоит ничего, кроме пустого звука. Оплачиваемый отпуск, премия. Что за бред? Твоё дело сейчас меня спровадить восвояси, чтобы ненароком я чего лишнего не наболтал на публику. Не наболтаю, не бойся. На! – я всучил книгу в руки Юлиану. – Я, правда, хотел автограф, чтобы персонально для Варашева. А ты… эх, ты!
Я оставил Юлиана, а сам сбежал вниз по лестнице, чтобы побыстрее окунуться в стылый, чуть солоноватый от пыли воздух города. Постоял, прислонившись к шероховатой едва прогретой солнцем стене. Вдохнул, выдохнул, снова наполнил грудь печальным, тоскливым вздохом, оттолкнулся и побрёл уже не спеша к машине. Навстречу мне неровным строем двигалась галдящая толпа азиатов. Туристы цедили японскую газировку из автомата, метили крючковатыми пальцами в невидимые мне ориентиры местности, фотографировали и загораживались от солнца ладонями. Поравнявшись со мной, толпа сильно заспорила о чём-то, и ко мне немедленно отделился делегат. На ломаном русском он поинтересовался, как пройти к Арбату. Понятно, что пилигрим имел в виду одну из самых старых московских улиц, а вовсе «не новую вставную челюсть», о которой так метко иронизировал писатель Нагибин. Поэтому я махнул рукой на подземный переход, откуда доносились звуки не лучшего исполнителя на свете, а потом указал на километровый стилобат с магазинами, соединяющий четыре известных новоарбатских дома-«книжки», давая понять, что их следует обойти слева и спуститься вниз по Арбатскому переулку.
– Арр-бацкай! – повторил за мной по слогам интурист и радостно закивал головой. – Тасибо! Башой та-сибо!
– Обращайся! – благодушно кивнул я ему, как старому знакомому, а сам свернул в другую сторону – к церкви Святого Симеона. Мимо меня проплыл «зелёный крокодил» с мигалкой, столь ненавидимый всеми водителями. Я проводил недоумённым взглядом эвакуатор: на платформе, зажатой цепкими объятиями манипулятора, покачивался небесно-голубой «ситроен».
– Нет, пожалуйста, только не это! – взмолился я, обращаясь к невидимым силам. Ускорил шаг, едва не срываясь на бег, но мысленно подбодрил себя, что небесно-голубых «ситроенов» в Москве хватает. Соломинка была слишком тонка для примера логичного довода, но разум за неё цеплялся до последнего.
– Вот же сука! – отругал я себя, обнаружив вместо машины запрещающий знак, который почему-то не заметил раньше. – Мерзкая, глупая тварь!
Я опустился на корточки и обхватил голову руками. В кармане разразился трелью телефон. Если это Алина, то трубку лучше не брать, мелькнула мысль, но, конечно, я потянулся за аппаратом и с удивлением обнаружил, что звонил Юлиан.
– Юлиан, – начал я, – любая твоя новость сейчас поблекнет, потому что всё плохое, что могло случиться, уже случилось.
– Когда тебе плохо, советую смотреть на тех, кому ещё хуже, – сказал Юлиан. – Это даже не совет, а предложение!
– Серьёзно? Что за предложение?
– Я тут подумал… в общем, ты прав насчёт всей этой ситуации. Как-то очень по-скотски выходит. Короче, считай, что меня заела совесть, и я тут тебе по личной, так сказать, инициативе нашёл работу. Ну, как работу… халтурку.
– Забавно. Что за халтурка?
– У меня давно висит заказик одного клиента. Клиент хочет мемуары, ищет личного биографа.
– Хуже работу не мог мне подыскать? – скривился я, – если, конечно, всё это не шутка! Какой из меня мемуарист?
– Это не шутка! – оборвал Юлиан. – Это реальные деньги! Клиент готов платить вперёд. Но это ещё не всё! Самого главного я не сказал. Есть что-то ещё, что ты должен знать.
– И что же это?
– Проблема в том, что клиент сидит.
– Что значит «сидит»? – не понял я.
– Отбывает наказание в местах, не столь отдалённых. Так понятнее?
– Так понятнее! И за что же он сидит?
– За убийство.
Глава 2
Счастлив, кто падает вниз головой:мир для него на миг – а иной.Владик ХодасевичЕсли есть на свете что-то, что можно подвести к черте общечеловеческого, то это несомненно глупость, неистребимая, неискоренимая наша неспособность здраво рассуждать и здраво действовать. До сих пор остаётся загадкой, какие обстоятельства подвели меня к решению, заставляя перелицовывать верх с низом, в последний момент меняя убеждения и точку зрения. Ответ, наверное, кроется в коротком эпизоде, случившемся задолго до описываемых здесь событий. Дело было курсе на втором. Мой приятель, тот самый, кадрящий девчонок в продмаговских очередях, привёл в общагу очередную даму сердца. Скажем так, девочка не была своею в доску и как-то не пришлась ко двору нашей тусовки. Нет, она любила стихи, но преимущественно «богохульного» и «порнографического» Пимена Карпова, больше известного и почитаемого в узком кругу старообрядцев-чернокнижников. Острый аромат грехопадения, исходивший от девицы, близорукий беззастенчивый взгляд и лицо, опушённое серебристой пылью, словно персик, не столько привлекали, сколько отталкивали и внушали страх. Я спросил приятеля, чем определялся выбор странной девицы в рваной одежде, с бритыми висками и плотным слоем белой пудры на лице, неизменно таскающей подмышкой пименовский «Говор зорь». На что незамедлительно получил ответ: «Знаешь, Адамчик, – сказал он в привычной развязной манере, – на безголосье и жопа – соловей».
Парадоксы орнитологической нескладицы, как называю я подобные этой ситуации, встречаются на нашем жизненном пути довольно часто. Это было грубоватое сравнение, но, похоже, очень меткое. Действительно бывают в жизни такие условия и обстоятельства, когда принимать существующий порядок вещей становится проще, чем перекраивать их под себя. Глупость это или просветление – каждый сам решает для себя.
Исправительное учреждение, где отбывал наказание Ким Наркисов, находилось в полусотне километров от Москвы. Так сказал Юлиан, убеждая «съездить посмотреть одним глазком». От Щербинки, где моя малогабаритная «однушка» выходила крошечным окном на полоску Бутовского леса, получалось вдвое больше: направление горьковское, неудобное, а значит, пилить ещё через пол-Москвы с юга на восток. По словам Юлиана, у клиента были серьёзные намерения, он был готов хоть сейчас платить человеку, способному делать записи событий его жизни, а затем формировать их в полноценную литературную работу.
Я же думал и удивлялся: как должны колобродить мысли отбывающего наказание человека, чтобы склонять себя к созданию такого метажанра как мемуаристика. Мемуары всегда оставались притягательными для людей, игравших не последнюю роль в мировой истории, но в случае с Наркисовым… не знаю. Уже тот факт, что эту фамилию я прежде никогда не слышал, говорил не в пользу моего героя. Не слишком ли это отдавало нарциссизмом?
– Тебе-то что? – удивился Юлиан. – Прибереги психоанализ для кружка фрейдистов. Ты просто выполняешь чью-то прихоть. За деньги. Вот и всё!
Ну, допустим. По большому счёту, мемуары пишутся не о персоне, а об эпохе, зафиксированной в воспоминаниях персоны. Так что право на историю имеют не только Черчилль, Кастро или Форд. Да и кто сказал, что титаны своих эпох не были нарциссами? Были – ещё какими! Конечно же, из всего, что написано, ценится то, что написано хорошо. Но кто сказал, что у меня получится хорошо то, в чём я никогда не преуспевал?
– Скажу тебе кое-что, но без обид, – произнёс Юлиан, которому, судя по тягостному вздоху, порядком осточертело убеждать меня. – За семь лет работы литагентом я не встречал ни одного писателя. Книгоделателей, текстоклепателей – да, сколько угодно, а живого литератора в глаза не видел. Да, и откуда им взяться, в самом деле? Уж не из стен литинститута, это точно. И вот тебе, мой друг, персональный и бесплатный совет: не точи себя, как карандаш со сломанным грифелем. Кому нужно самоедство, особенно после того, как состряпал тринадцать томов макулатуры на заказ.
– Спасибо, можешь поддержать! – хмыкнул я в трубку, по сути, понимая, что возразить мне нечего.
– Я говорил, и повторю: ты делаешь работу, клиент тебе за неё платит. Всё. Точка.
– Откуда у зэка деньги?
– Как откуда? Ты как думаешь, за чей счёт осуждённые содержатся на зоне?
– За счёт государства.
– Ну, если это обычная колония, то да, а если поселение, то «поселенцы» сами обеспечивают себя едой, одеждой и лекарствами. Они работают, получают зарплату, имеют деньги и пользуются ими.
Вообще, мотивчик, который пел мне по телефону Юлиан, очень был похож на тот, что напевали Алиса и Базилио беспечному Буратино, распаляясь перед ним о волшебном поле в стране Дураков. Успокаивало лишь то, что золотых монет, полученных от папы Карло на букварь, не было, а значит не было и риска. Или всё же был?
– В конце концов, – сказал мне Юлиан, стараясь скорее закончить разговор, – ты ничего не теряешь. Он платит аванс в любом случае. Если не сработаетесь, просто так и скажешь: извини, братан, творческого тандема у нас не сложилось. И будь свободен на все четыре стороны! Денег назад он не потребует. А я выступлю гарантом, поскольку обратился он ко мне и рекомендовал его я.
– Справедливо, – согласился я, а сам подумал: «Хорошо поёшь, собака! Убедительно!»
Добираться своим ходом (просить машину у Алины я не рискнул) выпало утренней электричкой с Курского вокзала, а дальше искать местное такси. Приложение Uber поблизости не показало ни одной машины. Пришлось, скрепя сердце, направиться к кучке привокзальных таксистов, бьющих нарды на капоте замызганной грязью легковушки. Юлиан заблаговременно прислал мне смс с адресом и по пути я глянул карту в телефоне. Прикинул: от железнодорожной станции до места выходило километров пять или около того. Назвал адрес. Из толпы вызвался один с изжёванным лицом и в такой же куртке из мятой кожи, согласился отвезти. «Пятьсот», – сказал, как отрезал он. Остальные не возражали, не возражал и я, понимая, что сложно перешибить фикс-прайс сплочённого братства местных «бомбил».
В машине я набрал номер Юлиана и выслушал его последние инструкции.
– Я отправил тебе электронную форму на почту – глянь! – вместо приветствия выпалил он. – Это заявление на имя начальника колонии о ходатайстве краткосрочного свидания с заключённым. Перепишешь синими чернилами от руки и поставишь вчерашнюю дату. Про бумагу и ручку я, кажется, тебе напоминал в Москве…
– Взял, – успокоил я, похлопывая по портфелю.
– Умница! Наркисову я ещё вчера написал о твоём приезде. Кстати, в переписке он просил тебя ускорить подписание заявления.
– Это как? – удивился я.
– По старинке: денежными знаками, – хмыкнул Юлиан. – Настаивал на твоей щедрости, писал, что компенсирует.
– А без денег никак? – расстроился я, с тревогой ощупывая полупустой бумажник.
– Можно и без денег, если не торопишься. Однако товарищ пишет, вот цитирую с экрана: купюра форсирует движение бумаги наверх к начальству. Это, во-первых. А во-вторых, даёт привилегию внеочередника.
– У них там что, по очереди?
– Фиг его! Этот Наркисов пишет путано, сбивчиво и как-то бессистемно, в общем, я мало, что вынес из его имейла. Как понял, в теории количество свиданий, положенных заключённому, не ограничено, а вот на практике всё иначе. Так что, в самом деле, не будь жмотом – дороже выйдет. И ещё: тебя будут шмонать. Жёстко. Не сопротивляйся! Выворачивай карманы и, вообще, всячески демонстрируй свою лояльность системе. Они это любят.
Таксомотор долго плутал по разбитым улицам, пока наконец не вырулил на утрамбованную гравием площадку перед двухэтажным зданием красного кирпича за колючей проволокой. Я расплатился, и под ногами хрустнули подёрнутые первым заморозком камушки.
Написанное в машине на коленке заявление вместе с пятитысячной купюрой, вложенной в мой паспорт, утонуло в зарешеченном окошке КПП. Для себя я отметил неприятный факт, что на все расходы, включая обратную дорогу, осталась тысяча рублей с какой-то мелочью.
– Кем вы приходитесь заключённому? – задал ненужный вопрос дежурный, поскольку в заявлении была подобная графа.
– Мы приятели.
– Серьёзно? – дежурный изогнул шею и посверлил меня глазами.
– Ну конечно, – едва смутившись, ответил я.
– Он знает о вашем визите?
– Да, ему должны были сообщить.
– Ожидайте!
Окошко захлопнулось и открылось снова через пять минут. Ещё через пять, пройдя унизительную процедуру досмотра, и лишившись на время мобильной связи, я очутился в длинном коридоре, берущем своё начало из ржавой клети с тусклой лампочкой и путаницы электропроводов.
– Следуйте за мной! – сказал сержант, хранитель массивной связки ключей и буянившей разноголосьем рации.
В коридорах власти сильно пахло жжёной серой и иссохшей, облупленной штукатуркой. Мы прошли его насквозь и оказались перед другой решётчатой дверью. Мой сопроводитель что-то брякнул в рацию, и я услышал щелчок размагниченного замка. Он поиграл связкой и отомкнул небольшим плоским ключом обычный засов. Решётка перед нами распахнулась, и мы попали в тамбур с тремя хлипкими дверьми. Сержант прошёл к дальней – на ней висела лаконичная табличка, утверждающая, что внутри комната свиданий – и толкнул её, приглашая внутрь.
Голливуд уже приучил нас, что автомобиль после аварии обязательно взорвётся, а партнёры после секса откинутся на спину и душевно поболтают за сигаретой. Штампы, навязанные кинофильмами, порою крепки настолько, что чудеса перестрелки, позволяющие герою оставаться невредимым, уже никого не удивляют, как не удивляет чрезмерно информативная бомба с таймером обратного отсчёта и двумя маркированными проводами, возле которых не хватает только записки от злодея и маленьких никелированных кусачек. Наверно, Голливуду стоит сказать спасибо и за крепкий, ничем не смываемый образ переговорных комнат американских тюрем, в белых стенах которых выхолощенный охранник в очках и со жвачкой надёжно блюдёт порядок, пока заключённый и посетитель по разные стороны толстого пулезащитного стекла общаются друг с другом, приложив к уху массивную винилитовую трубку коммутатора.
Мои искажённые представления были опрокинуты уже одним только видом комнаты, которую можно описать, как самую обычную. Лобным местом служил утверждённый посередине письменный стол цвета светлого ореха, когда-то полированный, а теперь затёртый со состояния гривенника в пивной. Вокруг стола в хаотичном беспорядке стояло четыре стула. Ещё один пустовал у самого входа, придвинутый вплотную настолько, что я споткнулся в попытке благополучно обогнуть его. По замыслу, это место предназначалось для конвойного. Его занял сопровождающий меня сержант. Он плюхнулся на стул и в его руках возник неведомо откуда пухлый, сшитый нитками делопроизводителя журнал. Он уточнил мою фамилию, инициалы, корявым почерком вписал в свободную графу и заставил расписаться напротив, пояснив, что инструктаж со мною проведён и я о чём-то там предупреждён. Затем он выскользнул наружу, но в одиночестве я пребывал недолго. Дверь с другой, «непарадной» стороны открылась почти сразу, и в комнату ввели короткостриженого, с острыми выпирающими скулами молодого человека. Он был одет в чёрное трико и наглухо застёгнутую олимпийку, справа на которой висел бейдж с чёрно-белой фотографией, номером, фамилией, именем и отчеством. Карточка с информацией о заключённом смывала любые сомнения: передо мной стоял Ким Каримович Наркисов 95-го года рождения.
Избитая мулька полагать, что возрастные кризы у мужчин подкатывают ближе к 40. Начиная с пубертатного периода всегда есть вероятность очутиться в группе риска. Сегодняшнее поколение акселератов демонстрирует удивительную моложавость бесов в рёбрах и седин в бородах. Это неизменно порождает странные поступки двадцатилетних, объяснить которых порой они не в силах. Думаю, что именно тяжёлый духовный кризис побуждает примерять новую социальную роль и переоценивать многие вещи. Очевидно, упорядочивание и документирование событий своей жизни можно отнести к тяжёлой форме возрастного кризиса, особенно если тебе 22.
Не буду пересказывать в подробностях нашу беседу, поскольку плохо сохранил её в памяти. Преамбулой к разговору служила странная фраза, после которой я был уже не столь внимателен к деталям.
– Хочу ясности с самого начала, – вместо приветствия сказал мне Ким. – Я клянусь сейчас вам, что меня подставили. Я никого не убивал. Вы мне верите?
Я снисходительно кивнул. Конечно, после этих слов всё стало окончательно на свои места.
– Ким, ты ещё кому-то говорил об этом, кроме меня? Там, адвокату, например, а?
– Я говорил об этом батюшке на причащении, у нас здесь свой приход.
– И что он сказал?
– Он сказал, что помыслы от лукавого всегда помогут нашему самолюбию найти оправдание себе. Сказал, что самооправданием человек только многократно умножает свою вину.
– Ты верующий человек?
– Мы здесь все немножко верующие, только каждый по-своему. Я верю в тюремные приметы.
– Такие есть?
– Отчего не быть? – удивился Ким. – Например, нельзя убивать паука. Он считается хозяином, так как всегда здесь живет. Перед вашим приездом я видел паука. Он полз вверх по паутине. Говорят, это к хорошим новостям. Знаете, верить на воле тяжелее, а здесь проще живётся с верой. В Бога, в человека, в символ, в случай. Не важно какая вера, лишь бы была. Вам там труднее с этим.