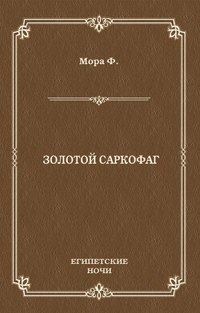
Золотой саркофаг
– Мы обещали за жалованье отдать вам свои жизни. Берите их: они ваши. Но никого из нас нельзя заставить лишить своих братьев жизни, дарованной богом.
За эту дерзость Максимиан приказал казнить каждого десятого. В мертвой тишине из шести тысяч шестисот отсчитали шестьсот шестьдесят человек и, согнав их вместе, засыпали стрелами.
Август рассказывал об этом с восторгом.
– Клянусь Геркулесом, это было зрелище получше всякого цирка. А в старика, говорившего от имени легионеров, никак не могли попасть. Он орал, что, дескать, чем сильней стараются задуть искру, тем ярче она разгорается в пламя. Но после того как старику вбили гвоздь в висок, он таки унялся.
Максимиан продолжал свой рассказ о том, как из шести тысяч шестисот человек в конце концов не осталось ни одного. Но Диоклетиан его не слушал. Он понимал, что соправитель его действовал так, как требовал долг. На его месте он сам поступил бы точно так же. Но в то же время он чувствовал, что слушать этот рассказ больше не может. Отодвинувшись в глубь носилок, он попробовал заснуть.
Недалеко от Антиохии на пути встретилась деревушка Апат. Курьезии, скакавшие впереди, чтобы предупреждать избранных ораторов о необходимости быть готовыми, на этот раз вернулись совсем обескураженные. Отозвав в сторону начальника дворцовых служб, они предложили объехать эту деревню стороной: в Антиохию можно попасть иной дорогой. Однако начальник дворцовых служб категорически запротестовал. Он гневно заявил, что об изменении маршрута не может быть и речи. Это было бы вопиющим нарушением священного распорядка. Он предупредил также, чтобы курьезии не вздумали своим предложением беспокоить Диоклетиана: император лучше всех знает, что порядок – основа основ, и любое посягательство на порядок приводит его в крайнее раздражение.
Процессия уже миновала здание сельской общины, не встретив ни души. Это показалось императору странным, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения.
На южной окраине, где лепились нищенские мазанки, в одном из дворов забрехала собака. Император распорядился обыскать дом, и вскоре гвардейцы выгнали оттуда человек двадцать оборванных мужчин и женщин. Дрожа от страха перед сиятельными господами, они повалились в пыль. Но тотчас выяснилось, что эти люди прекрасно знают, с кем имеют дело. Сгорбленный лысый старик с белой, местами опаленной бородой промолвил:
– Смилуйся, государь! Не гневайся, что мы от тебя спрятались. У нас нет хорошей одежды, мы не посмели тебе показаться.
– Кто ты? – спросил император, с удивлением разглядывая старика. – Не Квинт ли? Ты как две капли воды похож на моего садовника.
– Он – мой старший брат, государь. Я же – маслобой Анфимий. А эти люди – моя родня. Братья и сестры во Христе. Я их пастырь.
– Значит, ты безбожник? – взревел Максимиан. – Да и остальные!
Старик ответил кротко, но решительно:
– Прости, государь, только сейчас, по твоему гневному слову, я понял, что ты кесарь. Но знай – мы не безбожники. Наоборот, кроме Бога, у нас ничего нету.
– Почему у тебя обгорела борода? – спросил Диоклетиан.
– Когда собирали подати, у меня сначала отняли маслобойку, потом – всю одежу, а потом стали пробовать, не годится ли моя борода на щетки. Но это уж они просто так, ради шутки.
– Где же остальные жители деревни?
– От податей сбежали… в город ушли побираться. Там, слыхать, не мучают и хлеб даровой выдают. Уж не знаю, правда ли, а только ходят слухи, будто там и мясо раздают у алтарей бесплатно.
– А господа ваши, декурионы где?
– Испугались, что сборщики налогов будут их мучить, как они – нас, задумали к варварам бежать.
– А вы сами? – нахмурил брови Диоклетиан. – Вы почему не сбежали?
– Потому, что мы отдаем кесарю кесарево.
– Ты сказал, что у вас, кроме Бога, ничего нет.
– Ну да. Вот мы и молимся Богу за кесаря.
Максимиан так резко взмахнул жезлом, что тот рассек воздух со свистом.
– А мне говорили, что у христиан всюду сокровища запрятаны: ведь они на своего Бога ничего не тратят.
Старик обернулся и что-то сказал молодой женщине, одетой лучше других. По ее слову из задних рядов выползло пять оборванцев: две женщины и трое мужчин. Запрокинув головы, они вперили в августов неподвижные слепые глаза с гноящимися воспаленными веками.
– Вот наше сокровище – слепые, – указал на них Анфимий. – Бог поручил их нашим заботам, и мы делимся с ними последней крохой, чтобы по милости Божьей унаследовать царство небесное.
– Что же, сделка неплохая! – захохотал Максимиан.
– Дорофей, Горгоний! Выдайте им хлеба и одежду! – обратился Диоклетиан к своим свитским.
Он приказал носильщикам трогать. Максимиан посмотрел вокруг, ища взглядом носилки своих спутниц. Удивленный, спросил императора:
– У тебя в свите тоже безбожники?
– Почему?
– Лысый перекрестил их, а они в ответ – его.
– Может быть… Это их дело… Между прочим, двое, которых я позвал, – самые преданные среди моих слуг.
8
Сообщение придворного врача Синцеллия о том, что Пантелеймон с его знахарскими методами допущен к лечению императрицы, сильно взбудоражило коллегию антиохийских медиков. Отстранению главного врача втайне радовались все. Алчный и наглый, каким стал бы на его месте и всякий другой, Синцеллий был женат на дочери верховного авгура Тагеса, и боги, естественно, не могли пренебрегать столь влиятельным родством. Когда к ним через верховного жреца обращались за советом богатые больные, бессмертные неизменно указывали на Синцеллия как на врача, особенно любимого Эскулапом. Давно уже пора было богам порадеть о ком-нибудь другом. Тем не менее врачи не могли допустить, чтобы в священном дворце возобладали христианские предрассудки. Пока Пантелеймон именем своего бога лечил одну бедноту, это никого не возмущало, так как вознаграждать за свое лечение бедняки предоставляли богам. Но было слишком ясно, чем грозит доверие августы к лекарю нищих. Можно было сказать заранее, что придворная знать, несомненно, сочтет своим долгом последовать примеру императрицы, а состоятельные горожане, конечно, переймут распространившуюся при дворе моду.
Однако предпринять что-либо против врача, примкнувшего к безбожникам, пока не представлялось возможным. Ни убедить, ни припугнуть императрицу не удавалось. Нужно было выжидать. Если Пантелеймон потерпит неудачу, то христианский Бог не спасет его от той участи, которая выпала ему самому Если же колдовство удастся, то нужно все основательно взвесить. Может быть, специальная коллегия из авторитетных медиков решит причислить Пантелеймонова Бога к богам-исцелителям. Ведь некоторые иноземные боги в свое время были признаны не только обществом, но и государством: старые небожители слишком часто оказывались бессильными и проявляли несомненные признаки старческой немощи.
Вскоре выяснилось, что Пантелеймон – великий волшебник и связан с очень могущественным Богом, который, кажется, победил даже демона августы. В городе из уст в уста передавали слухи один поразительнее другого. Августа оставила постель и даже опочивальню. Августа отдыхала в атрии и беседовала со старым садовником Квинтом, который рассказывал ей о молодых годах императора. Однажды слышали даже, как августа громко смеялась. Далее стало известно, что августа, поддерживаемая нобилиссимами Валерией и Титаниллой, целый час гуляла в дворцовом саду. А секретарь по имени Квинтипор попросил у императрицы соизволения проводить ее в гранатовый сад, расцветший нынешней долгой и теплой осенью вторично. Цветы были пышные, с яркими лепестками, но не кроваво-красного, а бледно-розового цвета. Императрица погладила их, сказав, что цветом они напоминают детские губы, и повелела магистру каждое утро, пока цветут деревья, приносить ей несколько веток: проснувшись, она будет возлагать их на жертвенник Весты.
Достоверность этих рассказов об императрице подтвердилась в день прибытия августов. Утром на плоской крыше здания префектуры, замыкающего форум с запада, устроили сиденья, натянув над ними пурпурный полог. За час до заката там расположилась императорская фамилия. Крохотная фигурка августы, сидевшей в центре, терялась в пышном парадном окружении обоих цезарей, принцепсов и нобилиссим. Сзади стоял магистр с охапкой накидок и покрывал для ног. Осенние закаты были еще теплые, но чествование августов могло затянуться до вечернего холода.
В самом деле, солнце уже скатилось на самый край неба, когда звуки труб и оглушительный грохот тимпанов возвестили наконец о приближении повелителей вселенной. Предводимые эдилами ликторы загнали народ в портики форума и объявили: падать в ноги их божественности дозволяется всем, но только после официальных приветствий; а пока государей надлежит чествовать благоговейным безмолвием.
Церемония началась торжественным маршем трех тысяч юпитеридов и трех тысяч геркулидов – личных телохранителей августов. Они прошагали по площади, громыхая свинцовыми ядрами смертоносных пращей о щиты. За ними следовала тяжелая конница. Всадники в чешуйчатых панцирях окружали со всех сторон Диоклетиана в паланкине и Максимиана верхом на коне. Когда войска огромным полукольцом выстроились вокруг высокого ступенчатого помоста в центре форума, на площадь уже опустился вечер. Но из улиц, ведущих на главную площадь, огненными потоками хлынули легионы факельщиков.
– Постарел август! – вырвалось у Галерия, как только свет факелов озарил фигуры двух властителей, восседавших на высоких подмостках в креслах из слоновой кости. Никто не поинтересовался, какого из двух августов имел он в виду. Максимиан приосанился, стараясь выглядеть богом и в дорожном платье. Диоклетиан сидел в кресле расслабленный, ссутулившийся, низко опустив голову. Дремлет он или просто считает излишним проявлять внимание к пресмыкающимся у его ног смертным? Там, внизу, один за другим подходили на поклонение жрецы, государственные и городские сановники, граждане – и наконец, коллегии торговцев и ремесленников. Выразить в словах охватившее всех немое благоговение было задачей официального мастера красноречия Лактанция.
Когда с трибуны, установленной напротив помоста, но значительно ниже его, раздался взволнованный голос оратора, Диоклетиан поднял голову.
– Всевышние государи! Сподвижники богов! Отцы империи! – начал Лактанций, высоко подняв руку и прикрыв лицо тогой, как перед алтарем богов.
Полная луна поднялась над дворцами восточной стороны и залила светом крышу префектуры. Титанилла поежилась.
– Покрывало! – тихо потребовала она.
Квинтипор, шагнув вперед, накинул ей на плечи легкую шаль.
– Гранатовый Цветок! – шепнула девушка, искоса следя за рукой юноши, оправлявшего накидку.
Голова Квинтипора на мгновение появилась над ее плечом.
– Что прикажешь, нобилиссима?
– Ничего. Я просто произнесла твое имя. Наконец-то я нашла – Гранатовый Цветок!
Никто не обратил на них внимания. Ритор уже открыл лицо и, согласно законам своего искусства, прижал обе руки к сердцу: это означало, что восторг мешает ему говорить.
Император посмотрел на крышу префектуры. Только теперь он заметил там свою семью и, открыв рот, застыл от удивления.
– Мама, мама, ты видишь? Он смотрит сюда! – зашептала Валерия, сжимая руку матери.
Глаза жены увидели больше.
– Да!.. Улыбается нам! – взволнованно проговорила она и, счастливая, помахала ему рукой.
Но император уже перевел взгляд на оратора, приступившего к развертыванию своего приветствия. Директор школы красноречия считал своим прямым долгом придерживаться правил, которые в юности учил сам и которым в старости учил других. Правила эти предписывали не только обязательные интонации, наморщивание лба, потирание и воздевание рук, соответствующую постановку ног, но и композиционную стройность речи. Но император много раз уже слышал, что он – столп и краеугольный камень, меч и щит, кладезь премудрости и неиссякаемый источник всевозможных добродетелей. Он заранее знал все, что будет дальше, и потому, глядя на оратора, понемногу начинал скучать.
– Мир наш доселе был словно корабль без кормчего, игралище хлябей морских, разъяренных жестокою бурей. Но Рим вседержавный, как якорь надежный, ввел его в гавани прочного мира. Что ни день, то прекрасней цветут наши земли. Всюду мы проложили свои дороги, и нет во вселенной таких уголков, которые были бы для нас недоступны. Земля стала для людей поприщем деяний. Пустыни зеленеют посевами. От пашен и стад отступают леса. Упорным трудом мы сокрушаем камни. Болота и те превращаем в сады. Кого устрашат ныне дикие скалы и необитаемые острова? В лучах твоих мы всюду дома!
В глазах императора проснулось внимание.
– Евфрат не дерзает выйти из русла с тех пор, как ты перешел его, великий властитель! Вечные боги иссушили Рейн, видя, что отныне этот рубеж империи не нужен. Каледонские копья, оружие даков повержены ныне к твоим стопам и молят только о том, чтобы ты растоптал их, как панцири персов, арканы сарматов и стрелы парфян…
При слове «стрелы» император, откинув голову назад, стал рассматривать мириады звезд на бархатном небе, столько раз сиявших над ложем его то среди германских лесов, то в каменистых долинах Армении, то на нильских берегах, то у истоков Дуная. Взгляд Диоклетиана искал Сагиттария: как раз в ноябре в безмолвных просторах тверди небесной натягивает лук свой Стрелец.
Но в сиянии полной луны звезды меркли, да и зарево от факелов мешало видеть. Приложив козырьком ладонь к глазам, император напряженно всматривался в звездные узоры. Ритор с досадой заметил, что лучшие фразы его, подобно созревшим семенам одуванчика, летят по ветру, и в отчаянии, следуя глазами за взглядом императора, тоже поднял свой взгляд к небу. Оба увидели то, от чего сердца их замерли раньше, чем у заполнившей форум несчетной толпы.
В той части эклиптики, где взгляд, скорее, рисовал себе, чем видел, бледное созвездье Стрельца, словно прорвав небесную занавесь, вспыхнул огненно-красный метеор величиной с лунный диск. На мгновенье он будто застыл на месте, потом стал скользить на запад. Он не летел, как падающие звезды, а медленно катился, как бы подталкиваемый невидимой рукой. Кроваво-красный цвет его смягчился до золотисто-желтого, – таким метеор и канул в наползающую из-за крыши префектуры непроницаемую мглу, протянув за собой прямой как стрела хвост.
Тревожный ропот прокатился по форуму, кони стали нервно бить копытами землю. Казалось, порядок вот-вот нарушится. Но ритор, стоявший по-прежнему с поднятой к небу рукой, снова обрел присутствие духа.
– И вот эта звезда – знамение того, что младенец родился, а с ним родился и новый порядок вещей!..
Утром Лактанций опять полемизировал с епископом, и тот, черпая аргументы из эклоги Вергилия[90], доказывал ему, что рождение мессии в вифлеемскую ночь было предсказано. А теперь Лактанций, до предела взвинченный невниманием императора и появлением метеора, совершенно бессознательно повторил слова пророчества. Однако тут же спохватился и, хоть потерял нить своей речи, все-таки, будучи достаточно опытным в витийстве, сумел выйти из положения. Перекинув тогу через левую руку – предписанный жест наивысшего экстаза, он продолжал:
– С вашим владычеством на земле родился новый порядок, и этот бессмертный новорожденный задушил гидру анархии еще в колыбели. Пока боги не отдали под вашу власть всю поднебесную, жизнь самих императоров была не в большей безопасности, чем жизнь муравья, попавшего под пяту слона. Но вы возвели на трон строгий порядок, – да правит он золотым скипетром своим всей вселенной; и с той поры сам отец смертных и бессмертных не решается отпускать богов на землю, опасаясь, что они не пожелают оставить вашу империю и вернуться на Олимп.
Оратор уже не пытался следовать заученному тексту. По лицу императора он заметил, что речь его нравится, и пришел в неподдельный экстаз. Он предоставил полную свободу фантазии, которая до тех пор паслась по обочинам дороги на привязи у традиций. И она понеслась по грядущим столетиям – к тем временам, когда на земле наступит золотой век. Наказания станут ненужными, так как не будет больше преступлений. Насилие тоже отомрет, так как никто не пойдет против добродетели. Порядок – этот рожденный Диоклетианом божественный младенец – вырастет в чудесную гармонию, во власть которой с восхищеньем отдастся весь мир.
– Рим будет безмятежно господствовать над миром, и во всем свете перестанет коваться оружие. Урожаи будут созревать не для армий, волы понадобятся лишь для плуга и кони – для мирного труда. Навсегда смолкнут боевые трубы. Огромные армии воинов займутся мирными делами, станут изучать искусства и ремесла. Злая смерть никого уже не постигнет в бою.
Император с сияющим лицом обернулся к Максимиану, чтобы и тот разделил с ним его восхищение. Но западный август, во власти чудесной гармонии, сладко дремал, уронив голову на грудь. Только когда оратор делал паузу, чтобы перевести дыхание, Максимиан громко всхрапывал, резко встряхивая головой.
По правилам Квинтилиана[91] оратор отмечает приближение конца своей речи страстным, но небрежным откидыванием тоги за плечо. Лактанций, сверх того, простер обе руки к звездам.
– Что же может сказать смертный, когда великие боги, радуясь прибытию своих любимцев, пронзают мрак золотыми стрелами!
Император встал. Площадь потряс шквал ликующих возгласов. Толпы, терпеливо стоявшие в портиках, хлынули на форум. Ритор, ожидавший на трибуне приглашения императора, был мгновенно поглощен человеческим потоком. Такая же участь грозила и возвышению с троном. Но его плотным кольцом окружили конники, оставив лишь небольшой просвет, чтобы толпа все-таки могла лицезреть божественных государей. Сумятица, вопли и смех немного утихли, когда всадники, кое-как пробившись сквозь толпу, огласили сообщение городских властей: у храма Диоскуров на базарной площади началась раздача жертвенного мяса, и вино из семи погребов уже полилось в мраморные бассейны, в деревянные корыта.
Конные телохранители благожелательно и осторожно прокладывали дорогу к священному дворцу. Члены августейшего семейства поднялись со своих мест на крыше префектуры. Они решили опередить августов, чтобы встретить их в портале дворца. Но императрица, шестнадцать лет не бывавшая среди людей, тотчас вернулась на свое кресло, а за ней и остальные.
На южном конце форума всадников задержала огромная толпа, заслонившая выход на улицу Сингон. Люди хотели видеть императора: в их возгласах все время повторялось имя Диоклетиана. При свете факелов было видно, что почти все эти люди – мужчины, женщины и дети – одеты бедно. В первом ряду, энергично жестикулируя, стояли портовые грузчики, поденщики и слуги; за ними чернела густая толпа. Их предводитель – сгорбленный лысый старик, по виду крестьянин, – держал в руке пальмовую ветвь. Он что-то сказал центуриону всадников; тот, выслушав его, доложил Диоклетиану. Император, знаком повелев солдатам оставаться на месте, вышел вперед. Лысый старик, став на колени и положив пальмовую ветвь к ногам Диоклетиана, возгласил:
– Слава сыну Давидову!
Остальные, расстилая свои хламиды на пути Диоклетиана, восклицали:
– Благословен грядый во имя Господне!
Император с приветливым выражением лица шел между рядами оборванцев, ступая по расстеленным на земле одеждам. Вверху, на крыше, Констанций с Константином обменялись быстрым взглядом. Галерий, больно стиснув Максентию локоть, промолвил:
– Посмотри… И тут безбожники!
Принцепс охнул от боли.
– Что с тобой? – удивилась Титанилла.
– Получи то, чем угостил меня твой отец, – ответил Максентий, ущипнув ее за руку.
Девушка, украдкой взглянув на Квинтипора, заметила, что тот побледнел. Она с улыбкой взяла принцепса под руку.
9
С самого обеда Саприция твердила мужу, чтобы тот пошел на форум встречать императора. Но садовник в ответ повторял:
– Не буду я толкаться в этом стаде! Никуда не пойду, пока хозяин сам не позовет. Ты что, старуха, не знаешь меня?
– Как же, как же! Мне ли старика своего не знать! Будешь, значит, дожидаться, пока император приглашенье пришлет: господину садовнику и его дражайшей фамилии…
– Вот увидишь, старуха, так и будет!.. Императору за ужином кусок в горло не полезет, пока я самолично приятного аппетита ему не пожелаю.
– Вон что?.. Ну а я?.. По-твоему, меня он и видеть не захочет?
– С тобой он после ужина успеет повидаться.
Так они подтрунивали друг над другом, пока от портала дворца к ним не донеслись торжественные звуки труб, которыми приветствовали божественных государей у порога их обиталища.
– Теперь уж хозяин наверняка не пришлет за тобой. Наколи лучше дровишек, – выглянув из кухни, сказала Саприция.
– Ну-ну, не командуй! – огрызнулся Квинт, изо всех сил стараясь втиснуть ногу в старый солдатский башмак— Разуй глаза-то: я опять солдат, а не садовник!.. А дров я тебе еще утром нарубил. Посмотри, вон там в углу… Не знаешь, собака, какой нынче день-то?!
Последняя фраза относилась к башмаку. Было девятое ноября – годовщина освобождения императором Квинта от военной службы. Каждый год садовник надевал в этот день все солдатское. Доставал свой грубошерстный военный плащ, свой кожаный шлем и вместо деревянных башмаков натягивал солдатские калиги. С плащом было просто: его можно обернуть вокруг худого стариковского тела хоть дважды. Но ссохшиеся башмаки налезали на отверделые ступни все менее охотно.
– Клянусь Меркурием[92]! – топая ногой, бормотал Квинт – От готов в такой обуви, пожалуй, удерешь, а вот женщину не догонишь!
Но женщина появилась из кухни сама и, вытирая глаза платком, обрушилась на мужа:
– Что ж это за дрова?! Дым один!.. Все глаза выело!..
Квинт, копаясь у себя в сундучке, с раздражением ответил:
– Почем я знал, что старый негодник даже на дрова не годится!
– Ты это о себе, что ли, вояка?
– Нет, мать!.. Тот воитель поизносился, пожалуй, еще побольше меня!
– Кто такой?
– Да Приап[93].
– Бог Приап?! – всплеснула руками Саприция.
– В том-то и дело, что для бога он староват. Ну я и пустил его на дрова.
– Ох-ох-ох, Квинт!.. Что ты наделал?!
– Чего разохалась! Ты подумай сама: ему у нас только и дела было, что ворон пугать в винограднике. А нынче утром гляжу: поклевали, проклятые, весь черный виноград. А я-то берег его для императора. Схватил я топор и говорю: «Что, старый бездельник, и тут осрамился? Отправляйся теперь в печь, хоть там порадуешь мою старуху…» Что-то шлем никак не найду… не стянула ли ты и его?
Саприция благоразумно отступила под дымовой завесой, сотканной из бренных останков бога, принесенного в жертву повседневным нуждам. Зная по опыту, что мужчинам явно не хватает житейской мудрости, она, не спросивши супруга, приспособила некогда славный боевой доспех для хранения яиц.
Из буксовой аллеи донесся звук чьих-то торопливых шагов.
– Квинт, скорей, к повелителю! – послышался голос запыхавшегося Квинтипора.
– Ага, старуха! Что я говорил?! Живо – черный виноград в плетенку!.. А с тобой император уже беседовал?
– Что ты, Квинт!.. Это начальник дворцового ведомства послал за тобой. Я императора и в глаза не видал. И зачем ему видеть меня?
– Ничего, ничего! Сейчас увидит. Иди за мной! Я знаю, что говорю. Понесешь виноград. Пусть властитель знает, что ты можешь быть ему полезным, хоть он и превратил тебя в господина.
Император находился на женской половине. В резиденцию Максимиана, где собиралась вся семья, Диоклетиан не пошел. Он переоделся в просторный далматик и приказал подать ужин к императрице. Вечерняя трапеза состояла из многочисленных блюд, от возбуждающих аппетит пряностей до мучного и фруктов, но августейшая чета, видимо, ни к чему еще не притрагивалась. У придвинутого к ложу инкрустированного стола в ожидании распоряжений стоял на коленях невольник- испанец в праздничном наряде из алого шелка – прегустатор Балсас. Он обязан был присутствовать на всех, даже самых интимных и скромных, трапезах, чтобы самому проверять доброкачественность подаваемых блюд и напитков. Солдаты, по своему невежеству, убивали императоров открыто и грубо, а обходительные, утонченные царедворцы охотнее применяли яды, которые – без кровопролития и лишнего шума, с меньшим риском – давали лучший результат. Роль прегустатора была так важна, что император и не помышлял об упразднении этой должности. Более того, если бы ее не создали задолго до Диоклетиана, он сам догадался бы ее ввести. Должность прегустатора была не совсем безопасной, а поначалу весьма неприятной: посвящаемого в прегустаторы после принесения присяги лишали слуха, ведь за столом в семейном кругу сам божественный император может забыться и сболтнуть лишнее. Так что барабанные перепонки прегустатору были совсем не нужны: он должен был научиться слушать глазами.
Балсас уже десять лет пробовал пищу императора и порядочно разжирел, правда, не на харчах самого Диоклетиана, очень простых и даже скудных. Но ему ни разу еще не представилось случая спасти жизнь господина. К глухоте своей он довольно скоро привык, и, мало склонный к созерцательности, так же легко перенес бы, пожалуй, и слепоту. Ничто его не занимало, кроме действий, требуемых по должности. Подносить пищу или напитки к своему рту он с таким же успехом мог бы и вслепую. Единственным огорчением для этого добросовестного служащего была невозможность исполнить свой долг, а он чувствовал, что способен выполнять его особенно хорошо.

