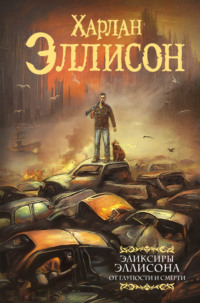
Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти
Круз заранее позвонил в студию.
– Мне нужен красный ковер, ты меня понял?
Глава пиар-отдела сказал, что да, он его понял. Круз подчеркнул свою мысль:
– И никаких, твою мать, ляпов, Бэрри. Ни единого, ни малейшего. Чтобы охрана даже не заикнулась насчет пропуска на территорию, чтобы ни одна моська-секретутка не заставила себя ждать. И чтобы каждый плотник и разнорабочий знали, что сегодня мы привозим Валери Лоун! Тотальное почтение, Бэрри! Малейший ляп, и я обрушусь на тебя как тигр на козленка!
– Господи, Артур, зачем ты мне угрожаешь?
– Я не угрожаю, Бэрри, я уточняю все, чтобы потом ты не стал выкручиваться. Это не какая-то поп-певичка, это Валери Лоун.
– Ясно, Артур. Успокойся.
И, когда они подъехали к воротам, охрана сняла фуражки и указала «бентли» дорогу к звуковой студии.
Валери Лоун сидела на заднем сиденьи рядом с Артуром Крузом, и даже под слоем пудры лицо ее было мертвенно-бледным.
Встречающие выстроились у павильона.
6
Глава студии, несколько иностранных журналистов, три продюсера, оказавшихся в павильоне и полдюжины «звезд» популярных телесериалов. Все они суетились вокруг нее, и когда вся эта чехарда закончилась, Валери Лоун была почти уверена, что кому-то и впрямь не все равно, умерла она или нет.
И когда замигал красный фонарь на штативе – знак того, что озвучивание эпизода закончено – они вошли внутрь. Валери сделала три шага по толстому звукоизоляционному полу и остановилась. Она задирала и задирала голову, глядя вверх на исчезающие в темноте балки, на мостки, на фонари, прикрепленные к распоркам, на кондиционеры, подающие прохладный воздух туда, где работали осветители. Потом она отступила в тень, и рядом с ней появился Круз, и он знал, что она плачет, и он обратился к присутствующим и попросил их выйти и присоединиться к мисс Лоун позднее. Никто ничего не понял, но все дружно вышли из павильона, и двери негромко вздохнули, поворачиваясь на пневматических петлях.
Круз подошел к ней вплотную. Она стояла, прислонившись к стене, в глазах ее были слезы, но ни единая слезинка не сбежала по ее лицу. В этот момент Круз понял, что с ней все будет в порядке; она была актриса, а для актрисы единственной реальностью мог быть придуманный мир звуковой студии. Нет, глаза ее не покраснели. Она оказалась крепче, чем он думал.
Валери повернулась к нему и, когда она произнесла: «Спасибо, Артур», слова эти прозвучали мягко и нежно. Круз обнял ее, а она прижалась к нему; в этих объятиях не было страсти, они были жестом защиты. Не произнеся ни слова, он говорил ей, что никто не причинит ей боль, и она так же безмолвно отвечала: «Моя жизнь в твоих руках».
Через некоторое время они прошли мимо кофейного автомата и мимо Вилли, который сказал: «Здравствуйте, мисс Лоун, мы рады, что вы снова с нами», мимо трибунки помощника режиссера и доски, к которой кнопками был прикреплен порядок съемок, где Брюс де Вайль поклонился ей, а взгляд его выражал восторг и радость, мимо участников массовки, сидевших на стульях с прямыми спинками, читавших Ирвина Уоллеса и занимавшихся вязанием, и все они приветствовали ее, радостно улыбаясь, мимо высокого стула режиссера, сейчас занятого помрежем по сценарию Генри, который пробормотал: «Здравствуйте, мисс Лоун, мы вместе работали над такой-то и такой-то картиной», и она подошла к нему и чмокнула в щеку, и казалось, он тоже вот-вот расплачется. Где-то в глубине павильона зачирикала птичка. Круз пожал плечами и рассмеялся как ребенок.
Кто-то заорал:
– Окей, тихо! Тишина!
Галдеж стих разве что на один децибел. Джеймс Кенканнон о чем-то говорил с Митчемом возле одной из стен декорации, расписанной под натурный план. Это был переулок в небольшом городке, а циклорама на заднем фоне была искусно обустроена для того, чтобы изображать ярмарку. Огни играли на холсте, и вся эта картина была для Валери Лоун абсолютной реальностью – настоящим парком развлечений, выстроенным для нее одной. Переулок был грязным и выглядел очень реалистично. Оператор настраивал угол съемки, съемочное оборудование на резиновых шинах было готово откатиться, как только рабочие потащат всю конструкцию. Ассистент оператора с зеркальной камерой на плече опустился на одно колено, настраиваясь на съемку снизу.
Де Вайль прошел на площадку, и Кенканнон кивнул ему.
– Окей, камера! – Кенканнон закончил приготовления к съемке и попросил помощника режиссера еще раз замерить все расстояния, и Митчем прошел на свое место, которое до этой минуты занимал его дублер. Помреж измерил расстояние до камеры рулеткой, выкрикнул цифру и кивнул первому помощнику режиссера, который заорал:
– Окей! Камера!
Раздался резкий звонок, и воцарилась полная тишина. Люди застыли в тех позах, в которых их застал сигнал. Никто не кашлянул. Не издал ни единого звука. Тони, звукооператор, сидевший на высокой платформе в наушниках, объявил:
– Дубль тридцать два Бэ!
Слова эти эхом прокатились по павильону. Через секунду их поймали микрофоны звукового фургона, стоявшего снаружи. Тони заорал:
– Синхрон! – и первый помощник появился перед камерой с хлопушкой в руках, на хлопушке были нанесены имя Кенканнона и номер дубля. Первый помреж стукнул перед объективом камеры хлопушкой, оператор снял надпись – короткая пауза, когда замерло абсолютно все, и в это тишине Митчем сделал глубокий вдох для предстоящей сцены драки, а Кенканнон – как все режиссеры – наслаждался мгновением абсолютной власти, когда все до единого замерли в ожидании его команды начинать съемку.
Беспредельный миг.
Рождение мечты.
Тень и реальность.
– Камера!
Пятеро мужчин выскочили из темноты и схватили Роберта Митчема, потащив его вдоль стены вглубь переулка.
Камера быстро наехала на лицо Митчема, в то время как один из мужчин схватил его за подбородок.
– Куда ты ее дел?.. Скажи нам, куда ты отвел ее! – требовал нападающий. Слова эти он произносил с легким мексиканским акцентом. Митчем мотнул головой, пытаясь избавиться от захвата. Оператор зеркалки снимал Митчема снизу, расположившись вне кадра основной камеры.
Митчем пытался заговорить, но рука мексиканца, сжимавшая его челюсть, не позволяла ему этого сделать.
– Дай же ему сказать, Санчес, – убеждал один из нападавших. Санчес отпустил челюсть Митчема и тот в ту же секунду рванулся вперед, сбив с ног двоих, стоявших перед ним, и главная камера быстро отъехала, снимая всю сцену общим планом. Зеркальщик продолжал снимать Митчема, следуя за ним.
Теперь все пятеро ринулись за Митчемом, готовясь сбить его с ног и вышибить из него душу. В этот момент Кенканнон заорал:
– Снято! – и противники выпрямились, расслабились, и Митчем быстрым шагом направился к своему вагончику. Съемочная группа начала готовиться к следующему эпизоду.
Массовка двинулась в кадр – группа молодых ребят, явно чужаки из колледжа, приехавшие на поиски греховных развлечений.
Они толпились, толкая друг друга, и Артур в очередной раз поразился грандиозности того, что здесь происходило. Сценарист написал: «УСТАНОВОЧНЫЙ КАДР ТОЛПЫ В ПЕРЕУЛКЕ» и, чтобы сделать эту строчку реальностью, нужно было ухлопать порядка пятнадцати тысяч долларов. Он взглянул на Валери, стоявшую рядом – она улыбалась едва заметной улыбкой, в которой проявлялись и память, и очарованность сим действом. Этот восторг, это восхищение так и не стерлись за все эти годы. Очарованность тем, как фантазия превращается в реальность.
– Ну и как вам все это? – негромко спросил он.
– Я словно никогда отсюда и не уезжала, – ответила она.
К ней подошел Кенканнон. Он держал обе ее руки в своих и смотрел на нее: как мужчина и как камера.
– О, вы прекрасно со всем справитесь… Прекрасно. – Он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ.
– Я еще не читала роль, – сказала она.
– Джонни Блэк еще не закончил вносить изменения в сценарий. Ну да мне плевать. Вы справитесь преотлично.
Они смотрели друг на друга с такой степенью близости, которая знакома только мужчине, видящему реальность через образы на целлулоиде – и женщине, стоящей рядом с мужчиной, который может сделать ее выглядящей на семнадцать лет или на семьдесят. Доверие, страх, сочувствие и взаимное перемирие между полами. Да ведь оно и всегда было так. Словно немая беседа: что он видит? чего она хочет? на чем мы договоримся? Я тебя люблю.
– Вы уже поздоровались с Бобом Митчемом? – спросил Кенканнон.
– Нет. По-моему, он отдыхает. – Она с таким же почтением относилась к звездам, с каким к ней относились актеры меньшего, чем она, калибра. – Я могу поговорить с ним и попозже.
– Вы хотели бы о чем-нибудь спросить? – сказал он, обведя рукой павильон. – Вам придется жить здесь ближайшие несколько недель, так что лучше заранее со всем познакомиться.
– Да… У меня есть несколько вопросов, – сказала она. И снова начала входить в роль звезды. Она задавала вопросы. Вопросы, которые устарели на двадцать лет. Нет, не дурацкие вопросы. Просто они были… не в фокусе. (Словно хлопушка не была синхронизирована со звукотехническим фургоном, когда слова вылетают из уст актеров на миллисекунду раньше времени.) Не неудобные вопросы, но просто несуразные вопросы; вопросы, ответы на которые заставляли Кенканнона наставлять ее, напоминая ей, что она стала реликтом, что время ее не ждало, – как не ждала и она, еще будучи звездой – но просто торопливо собирало свои пометки и, тяжело дыша, пролетало мимо нее. Сейчас ей приходилось напрягать ментальные мускулы, которые уже атрофировались, для того, чтобы догнать время, бежать вперед, как амбициозный курьер, стремящийся заработать очки у студийных шишек. Ее вопросы становились все более несуразными.
Она произносила слова с немалым трудом. Круз видел, что она становится – как там Хэнди определил это? – все более скованной.
Три девушки появились на площадке, выйдя из гримерного вагончика, и остановились в темном углу звуковой сцены. На них были длинные халаты в цветочек. Помреж повел их к окнам небольшого грязного здания, выходившим на переулок. Девицы прошли за стену задника – где были некрашеные доски и распорки, и где фломастером было написано «УЛВК 115/144», показывая, для каких сцен предназначалась декорация.
Вскоре они появились в трех окнах здания. Они должны были быть свидетелями драки каскадера с напавшими на него негодяями… Драки Митчема с напавшими на него негодяями.
Им предстояло изображать трех мексиканских проституток, которых привлек к окнам шум драки. Они сняли халаты.
Их обнаженные груди свисали на подоконники как созревающие и тающие дыни Сальвадора Дали. Валери Лоун обернулась и, увидев целый ряд темно-коричневых сосков, издала странный звук, нечто вроде «Оувах!», словно они были выставлены на продажу по столь низкой цене, что она удивилась, опешила и преисполнилась подозрениями.
Кенканнон торопливо пытался объяснить, что фильм снимается в двух версиях: для американского рынка с последующим телевариантом, и еще одна, для зарубежных рынков. Он рассказывал о деталях, отличающих одну версию от другой и, когда он закончил – все занятые в эпизодах и массовках внимательно слушали, потому что мастерское лицемерие всегда интересно наблюдать – Валери Лоун сказала:
– Боже, надеюсь, у меня не будет сцен с обнаженкой…
И один из участников массовки фыркнул, достаточно громко пробормотав:
– Размечталась…
Артур Круз развернулся грациозно, почти балетно, и ударил парня – классического серфера, блондина с накачанными мышцами, причем кулак его пролетел не более шестнадцати дюймов. Это был удар профессионального бойца, без размаха, без прицела, просто короткий жесткий удар, пришедшийся парню прямо по сердцу. Он резко выдохнул и обмяк, сползая по стене.
Если бы Круз задумался хоть на секунду, он никогда этого не сделал бы.
О том, как это повлияет на участников съемки. О неизбежном судебном иске. О жалобе в Гильдию киноактеров. Очень нехорошо бить кого-то, кто на тебя работает. По лицу Валери Лоун можно было понять, что она увидела все происшедшее боковым зрением. Молодой парень, скорчившийся от боли, словно ребенок.
Но Круз сделал это не раздумывая, и Валери Лоун повернулась и побежала к выходу.
Вопросы, сейчас не имевшие отношения к фильму: показ по телевидению, график съемок, финансовая привлекательность занятых в фильме звезд, молодежь, которая теперь составляла актерский состав каждого фильма, изменение съемочных техник и мышления киномагнатов, а равно вкусов и нравов новой киноаудитории.
Поколение молодых, не питавших никакого уважения к корням и наследию прошлого. Никакого уважения к возрасту. Время работало против Валерии Лоун. Так же, как это было двадцать лет назад.
Простой истиной было то, что Валери Лоун была приговорена не из-за отсутствия таланта – хотя талант в этой ситуации очень бы не повредил, и не из-за слабости характера – хотя более жесткая личность могла бы помочь ей пройти через все штормы, не из-за менявшихся течений в киноиндустрии – но всем этим вместе взятым, плюс Судьба и Время. Но в основном – Время. Она, попросту говоря, не была единым целым со своим миром. Просто Вселенная решила проявить интерес к Валери Лоун.
По большей части, Вселенной бывает наплевать. Но к отдельным людям время от времени Вселенная проявляет сочувствие. Внезапно Вселенная чувствует потребность поддержать и согреть. А катастрофы, обрушивающиеся на этих «избранников Судьбы» являются лишь доказательством того, как неуклюжа Вселенная и как безумен Бог.
Было бы гораздо лучше, если бы Вселенная предоставила Валери ее собственной жизни. Но Она этого не сделала; Она скомбинировала все элементы, чтобы в ходе случайной встречи усыпать ее путь розами.
Для Валери Лоун в неуклюжей и сострадательной Вселенной путь этот оказывался усыпанным битым стеклом и мертвыми птицами.
Вселенная откликнулась ноткой цинизма, почти неслышно прозвучавшей во всех этих блонд-серферов из массовки… Вселенная притупила восприятие Валери киноиндустрии, какой она стала… Вселенная накачала Артура Круза адреналином в ту секунду, когда паренек-блондин отпустил свою грубую ремарку… и Вселенная в своей обычной невинной манере полагала, что облагодетельствовала Валери Лоун.
Но, конечно же, нет.
Это должно было стать небольшим инцидентом, от которого у нее закипела бы кровь и свернулись в тугой узел нервы, инцидентом настолько малым, насколько возможно, но он бы сработал на усталось металла, на эрозию и ржавчину. И потому, когда наступит нужный момент и когда необходимым станет оптимум эффективности… Валери Лоун будет снова отбрасывать к этому мгновению, к этой грубой шутке, к этой отвратительной сцене, что и станет той слабостью, которая должна будет ее погубить.
С этой минуты Валери Лоун пожирала ее собственная тень. Противопоставить этому ничего было нельзя – даже если чудесная, прекрасная Вселенная решила позаботиться о Валери.
Вселенная, где правит безумный Бог, которого тоже пожирает его собственная тень.
Валери Лоун бросилась к выходу…
Через площадку озвучки, наружу, вдоль по студийной улице, через Филадельфию 1910-го, мимо дворца развлечений Кубла Хана, вокруг марсианского города из песка, и потом к Будапешту периода восстания (где кастрированные красные танки до сих пор валялись пьяные от коктейлей Молотова), и через Колодцы Тени – прямо в изжаренную солнцем прерию, где ее поджидала шахта Анаконды номер Три.
Она ринулась во тьму Анаконды и оказалась в самом центре Катастрофы на Шахте в Спрингхилле. Внутри и снаружи все было абсолютно реальным.
Артур Круз и Джеймс Кенканнон бежали за ней.
У входа в пещеру Круз остановил Кенканнона.
– Позволь мне, Джим.
Кенканнон кивнул и медленно отошел в сторону, где вытащил трубку, которую принялся прочищать ершиком, который он достал из кармана рубашки.
Артур Круз вошел в пасть покрытой мхом пещеры. Там он стоял молча, пытаясь услышать звуки скорби – или безумия. Но он не услышал ничего. Пещера была глубиной в десять-пятнадцать футов, но могла бы быть самым глубоким колодцем в дантовом аде. Когда глаза Круза привыкли к темноте, он увидел ее. Она стояла, прислонившись к декорации, представлявшей скалу.
Валери попыталась спрятаться, когда он двинулся по направлению к ней.
– Не надо.
Он произнес эти два слова мягко, и она остановилась.
Он подошел к ней, сев на выступ скалы рядом с Валери. Она уже не плакала.
– Он дебил, – сказал Круз.
– Он был прав, – ответила она.
– Он не был прав. Он просто невоспитанный щенок, и я поставил его на место.
– Мне очень жаль.
– «Жаль» здесь не годится. То, что он сделал, было непростительно.
Круз хохотнул:
– То, что сделал я, тоже было непростительно. Теперь в меня вцепятся псы-юристы. – Он хохотнул громче. – Но оно того стоило.
– Артур, отпусти меня.
– Не хочу и слышать об этом.
– Но я должна это сказать. Пожалуйста. Отпусти меня. Из этого ничего не выйдет.
– Выйдет. Обязано выйти.
Она смотрела на него сквозь темноту. Его лицо словно утратило все черты. Но она знала, что если могла бы видеть его ясно, то увидела бы, как он напряжен.
– Почему это так важно для тебя?
Он долго молчал, а она ждала, ничего не понимая. В конце концов, он произнес:
– Пожалуйста, позволь мне сделать это для тебя. Я хочу… очень хочу… Чтобы у тебя снова все было хорошо.
– Да, но почему?
Он попытался объясниться, но это не было объяснением.
Это было о боли и восторге. Об одиночестве и открытии радости в кино. О том, каково это – жить без указателей и обретать будущее, которое всегда было для него лишь хобби. О стремлении к успеху. О достижении успеха и понимании, что фильмы подарили ему все – и она была частью этого. Все это не было рациональным объяснением, которое Круз мог бы предложить ей в связной форме. Он жил, прорываясь вверх, и она протянула ему руку. Это было маленькое, крошечное одолжение, и расскажи он ей о нем, она не смогла бы и вспомнить, о чем речь. И не могла бы представить, что эта мелочь сопоставима с тем, что он пытается сделать для нее.
Но по мере того, как год за годом накапливались в памяти Артура Круза, крошечная услуга вырастала в его памяти вне всяких пропорций, и теперь он изо всех сил пытался отплатить Валери Лоун добром за добро.
И затем несколько секунд тишины.
Он слишком долго был на арене. Он не мог бы рассказать ей обо всех этих безымянных и чудесных вещах, в надежде избавить ее от страха. Но даже в его молчании была абсолютная ясность.
Валери коснулась рукой его лица.
– Я попытаюсь, – сказала она.
И когда они вышли на плоскую площадку, по которой к ним бежал Кенканнон, Валери повернулась к Артуру Крузу и произнесла полунасмешливо (как она делала это восемнадцать лет назад):
– Но я не буду сниматься у тебя голой, парнишка.
И, хоть это далось ему нелегко, Круз все-таки сумел улыбнуться.
Хэнди
Тем временем в голове моей все двигалось от Эриха фон Штрохайма до Альфреда Хичкока. Нет, скорее, от Фрица Ланга до Вэла Ньютона. От плохого к худшему.
Я вернулся из Страны Никогда-Никогда и песен черепах и позвонил в офис Артура. Я просто не был готов вернуться в мир шоу-бизнеса сразу после полировки могильных плит на частном кладбище Эмери Ромито. Мне нужно было погрузиться во что-нибудь тихое и спокойное, а этого в студии не найти.
В квартире царила липкая жара. Я разделся и принял душ. С минуту я подумывал над тем, чтобы смыть все мои шмотки в унитаз. Мне казалось, что они заражены плесенью веков – из самой Санта-Моники. Потом я поежился. У меня родилась мысль сдать себя в химчистку – целиком.
– Вот так, Фил, – сказал бы я. – Меня нужно почистить и спалить. «Тебе нужно поспать, Хэнди», – подумал я. Годков этак семьсот.
Рип Ван Винкль, старина Рип, подумал я при новой вспышке сумасшествия, будто знал, что почем. Теперь это, казалось, понял и я: новый бродвейский хит RIP[9]! с Фредом Хэнди в главной роли, где он будет спать как бревно – все семьсот лет прямо перед вашими слезящимися глазами, билеты от $2.25– $4.25 до $6.25 за места в партере у оркестра.
Не слишком-то душ помог восстановить мое душевное здоровье.
Я решил позвонить Джули.
Я проверил график, который выторговал у ее агента, и обнаружил, что они будут выступать с «Хэлло, Долли!» в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Набрал операторшу и навешал ей тонны лапши на уши. Вскоре она уже созванивалась с разными добрыми людьми в Пенсильвании, которые – конечно, строго по секрету – сообщили ей, что моя Леди Влажные Ляжки, красотка Джули Глинн, в девичестве Ровена Гликмайер ушла из отеля в город, но операторша 212 в Голливуде, если потребуется, будет всю ночь сидеть у телефона, чтобы свести нас, идеальных образчиков Светлой Американской Любви, вместе. Когда угодно.
Повесив трубку, я внезапно обнаружил, что все мое хорошее настроение улетучилось к чертям собачьим.
Я понял, что печален – как никогда за последние годы. Да, но что, черт возьми, случилось? Откуда вся эта депрессия, это предчувствие катастрофы? Но тут зазвонил телефон. Звонил Артур, рассказавший мне о том, что произошло на студии. Меня трясло. А еще он сказал мне, что сегодня вечером будет прием в «Кокосовой Роще», и что он подумал: а вдруг Валери захотела бы прийти? Артур уже вызвонил звезду – кажется, Бобби Винтона, или Серджо Франки, или Уэйна Ньютона – в общем, кого-то из той лиги, и что со сцены будет объявлено, что в зале присутствует Валери Лоун, а далее долгая овация.
Он намекнул, чтобы я связался с Ромито и договорился о его встрече с Валери. Паренек из прислуги замыл все пятна сегодняшнего дня. Потом Артур сообщил мне имя того дурачка из массовки – должно быть, уже прочитал о нем в газете. Он произнес его имя долгим шипом, как рассерженная кобра и предложил мне собрать небольшое досье на этого «джентльмена». У меня всегда было четкое ощущение того, что Артур Круз может быть настолько же безжалостным врагом, насколько он бывал щедрым и открытым другом. Похоже, блондину-серферу нескоро удастся найти подработку в кино, хотя кошмарные нравы Юрского периода, когда Коэн, Майер или Скурас могли уничтожить любую карьеру парой телефонных звонков, безвозвратно канули в прошлое. Меня продолжало трясти.
Потом я позвонил Эмери Ромито и сказал ему, что он должен будет забрать Валери Лоун в Беверли Хиллз в шесть тридцать.
Смокинг. Он фыркнул, и я понял, что у него нет денег, чтобы взять смокинг напрокат. Тогда я позвонил в студийный костюмерный цех и поручил им отправить кого-нибудь в Санта-Монику… чтобы одеть его по нынешней моде, никаких отложных воротников а-ля Двадцатые, и все это время меня продолжало трясти.
Тогда я пошел и снова принял душ – горячий душ.
На моем теле он казался ледяным.
Я слышал, как звонит телефон, слышал шум воды в душе, и добежал до телефона, когда звонивший уже собирался повесить трубку. На полу было множество мокрых следов, которые исчезали в ванной, откуда я, собственно, и явился.
– Да, кто? – заорал я.
– Фред? Это Спенсер.
Сноска: О депрессии. Когда ты только что получил известие из налоговой о том, что необходима перепроверка твоих доходов за 1956–1966 годы, чтобы убедиться в правомерности освобождения от налога на развлечения в размере 13 000 долларов в год; когда тебе звонят из общества защиты животных и просят заехать к ним для опознания тела в их холодильной камере, и при этом твоего любимого бассет-хаунда они описывают так, словно его провернули через мясорубку; когда твоя жена, с которой ты давно не живешь и которую в прошлом месяце просто трахнул по случаю, взяв на себя расходы по разводу, звонит тебе и говорит, что беременна, причем от тебя; когда начинается Девятая мировая война, и на твой дворик обрушивается напалм; когда тебя внезапно пленила самая сильная простуда в жизни, а левый угол рта потрескался, и простата снова начинает барахлить, выделяя блестящие капли отвратительной зеленой субстанции; когда все это соединяется в одну гигантскую цепь ужасов, угрожающих послать тебя в бреду на концерт Джо Пайна или Лоуренса Велка, тогда и только тогда тебе звонят агенты вроде Спенсера Лихтмана.
Словом, паршивее некуда.
Новые ужасы! Я застонал. Новые ужасы!
– Эй, ты там, Фред?
– Я умер.
– Слушай, я хочу поговорить о тебе.
– Спенсер, умоляю. Я хочу поспать, лет этак семьсот.
– В разгар напряженного трудового дня?
– Дай мне поспать.
– Я хочу поговорить о Валери Лоун.
– Приезжай ко мне.
Я повесил трубку. Волчья стая неумолимо приближалась. Я позвонил Крузу. Он был на совещании. Я сказал Роуз, чтобы она его вытащила. Она послала меня нахрен. Я вежливо поблагодарил и вернулся в душ. Холодный душ. Горячий душ. Холодно, жарко, холодно: если мое настроение и дальше продолжит скакать от плюса к минусу, наступит время двусторонней пневмонии. (Я мог бы назвать это маниакально-депрессивной фазой, если бы мое настроение не менялось от депрессивного к мега-депрессивному. Без малейшего намека на маниакальность.)

