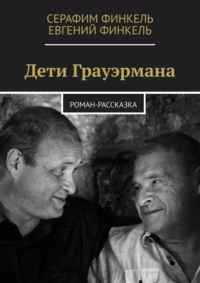
Дети Грауэрмана. Роман-рассказка
"Знала я одного барабанщика. Толстого, лысого. Стучал как бог".
Нашла дурака.
Вышло по-моему. Был у меня барабан, и палочки были.
Почему же я не стал барабанщиком?
Боялся растолстеть и облысеть?
Нет. Ну… Нет.
Просто я решил стать корреспондентом.
В настоящей Газете. Представляете?
«Знала я одного корреспондента», – сказала мама.
Черёмуха
Капотня. Я приехал туда следом за мамой весной 1970 года. Как на дальнюю неведомую заставу. Где мы заново начинали жить. После наших Никитских и Рублёвки.
Там нечего было любить. Я пробовал полюбить факел нефтезавода. Но разве можно любить факел?
И тогда я полюбил черёмуху. Справа от подъезда был островок зелени, укрытый ею. Под её сенью я прятался, как в шалаше. Ложился на землю и дышал. И меня никто не видел.
Потом черёмуха отцвела, запах пропал. Но я продолжал прятаться.
Это было поздним летом. Еще до школы. В мой шалаш забралась девочка. Она была из соседнего подъезда. Я её раньше видел, но не знал, как зовут.
«Это моя», – сказала она. «Что твоя?» – спросил я. «Это моя черёмуха». «Почему?» «Потому что я первая». Мой маленький мир рушился. «Зато я тут живу, в первом подъезде». Она посмотрела на меня, запустила руку в зелень и вытянула оттуда на ладошке горсть черных ягод. «На!» Я взял, пожевал и выплюнул. «Дурак, – сказала она. – Так надо». Снова запустила руку в зелень, вытянула горсть и сунула ягоды в рот. Щеками старательно изобразила, как надо. Скорчила смешную рожу: ягода рот вяжет. Потом сплюнула косточки. Снова сунула руку в зелень и дала мне черных ягод.
Ее звали Таня. Она умела делать «мостик».
Первая любовь
1 сентября 1970 года. Школьный двор. Беззубые улыбки. Одна прекрасней всех.
Полчаса спустя. Я в печали. Мама спрашивает: «Что случилось?» Бабушка спрашивает: «Хочешь писать?» Дедушка смахивает набежавшую слезу. Я печален, потому что меня и ту девочку ведут в разные классы.
Час спустя. Я счастлив. Кто-то помолился за нас. Она сидит прямо передо мной. Можно протянуть руку и потрогать бантик. Снимаю и протираю очки. Она оборачивается и показывает мне язык. Или улыбается? Или улыбается. Без очков я плохо вижу.
– Меня зовут Женя.
– А меня – Лина.
Милка
Она была красивая. Рыжая девочка с лисьей улыбкой. Кажется, тоже – грауэрмановская.
Они звонили три раза, я выбегал в коридор, спрашивал «Кто там?» и приоткрывал дверь на цепочке, выглядывал, радостно говорил «А это вы», снова закрывал дверь, снимал с цепочки и распахивал перед гостями. Так меня учила Бабаня.
Она была моей сестрой. Не родной, конечно. И даже не двоюродной. Милка была на год младше меня, и у нее была привычка обниматься при встрече. Я открывал дверь, и она меня обнимала. Красивая. А за ней стояли ее родители. Очкарик папа, я тоже был очкариком, и красивая мама.
Девочек я стеснялся. У меня в классе была Лина, которую я любил. Но разобраться в своих чувствах мне было сложно. Потому что в гостях у бабушки Кати я сох по сестре Тане, а у Бабани и деда Гриши мне становилось немного жарко, когда приводили Милку.
Лина и Таня были далекие-предалекие. А Милка любила быть близко. Она могла запросто навалиться, чмокнуть в нос и сказать так ласково-ласково: «Очкарик». А потом: «Пошли в шкаф». В нашем шкафу мы прятались и целовались. Я снимал очки и запихивал их в карман дедовского парадного пиджака. Мы целовались, а его медали звенели над нами. «Что это вы там делаете?» «Мы в прятки играем». «От кого прячетесь?» «От людей».
Ее родители часто ругались, даже у нас. Мы убегали во двор или забирались в шкаф. Но в такое время нам было не до поцелуев. Милка прижималась ко мне и говорила: «Никогда не выйду замуж».
Вышла. А потом ее сбила машина.
Певец
Я пел всегда. И никогда не нежно.
Сказать по правде, не пел, а орал. Но мама считала, что у меня абсолютный слух. А потому, когда в возрасте трех лет я нагло заявил «Мама, больше никогда не пой», она навсегда перестала петь про лунную поляну, чтобы не травмировать хрупкий талант.
Я же подобную заботу о ближних проявлял редко. И искал себе слушателей везде и всегда.
Оказавшись в троллейбусе по дороге к больницу (в детстве меня постоянно таскали по врачам), я вскарабкивался на сиденье и вопил, силясь перекричать всех:
О, дайте, дайте мне свободу —Я свой позор сумею искупить!Спасу я честь свою и славу!Я Русь от недруга спасу!Моя еврейская бабушка была близка к инфаркту. И волоком тащила потом меня в Филатовскую (что рядом с Планетарием), не решаясь больше сунуться в общественный транспорт.
Добрая докторша Руфь Самуиловна, успокаивая Бабаню, на своё горе решила проверить – не оказала ли скарлатина губительное воздействие на слух и голос ребёнка. На предложение «Женя, скажи что-нибудь» я ответил диким рёвом:
Стонет Русь в когтях могучих!В том она винит меня!Потом настало время революционных песен, разученных под руководством деда Гриши, у которого с советской властью были свои счёты.
На Дону и ЗамостьеТлеют белые кости!Над костями гудят ветерки!Помнят псы-атаманы!Помнят польские паныКонармейские наши клинки!Иййй…
Эх, тачанка-ростовчанка!Д-наша гордость и краса!Пу-ле-мёт-на-я! Тачанка!Все четыре колесааа!Деду нравилось. Он разрешал мне петь в троллейбусе.
Мне семь лет, почти восемь. Я выпускник первого класса. И я же боец 13-го отряда пионерского лагеря имени Зои Космодемьянской. Моя мама вожатая 1-го отряда. У старших – КВН. Мне предложена роль Цыганёнка в сценке про Неуловимых мстителей. В 13-м отряде завидуют все.
По сценарию было так. Я выхожу, делаю широкий взмах рукой и произношу «Цыганский романс! Очи чёрные!» И тут «тра-та-та» – я падаю замертво, меня утаскивают за кулисы под мои крики: «Спрячь за высоким забором девчонку…» Вот и вся роль. Смешная, но короткая.
Вышло так. Я махнул рукой «Цыганский романс! Очи чёрные!» Тут «тра-та-та». Глянул в сторону «пулемётчика». Придумал: «Мазила». И заорал:
Очи чёрные!Очи страстные!Очи жгучие!И прекрасные!Это не укладывалось в сценарий. Пулемётчик превратился в кавалериста и со шваброй наголо бросился на маленького очкарика. А вот вам фиг. Вёрткий я.
Как люблю яВас!Как боюсь яВас!Бойцы 1-го отряда гонялись за мной по сцене. Но сквозь грохот баталии доносился до зрителя мой голос писклявый:
Знать увиделВас!Я в недобрыйЧас!Триумф! Жюри было единодушно. Цыганёнка до вечера носили на руках. Утром я проснулся знаменитым, с первой в своей жизни кличкой «Очи Чёрные».
– Мама, правда, голубые?
Яша
У Яши были грустные глаза. А еще морщины и редкая рыжая шевелюра. Яша родился орангутаном и долго жил в зоопарке. Потом его отправили на пенсию – в пионерский лагерь имени Зои Космодемьянской. Так мне рассказал Взрослый, который ухаживал за Яшей и другими в живом уголке. Имени Взрослого я не помню. Помню: у него были грустные глаза, как у Яши.
Мне тогда было семь лет. Я окончил первый класс с одной четверкой. Мама взяла меня с собой в пионерлагерь, где работала вожатой первого отряда. Меня записали в тринадцатый, для самых маленьких. В этом лагере, думала мама, я перестану кричать во сне. Потому что в мае мы похоронили Виталика, который сгорел вместе с моим другом Валериком. Они мне снились: синий Виталик и оранжевый Валерик.
Синего Виталика я видел в гробу. На похороны Валерика мама меня не пустила. Хотя директор школы настаивал. Весь класс должен был хоронить обоих, чтобы «получить урок на всю жизнь». Потому что мы тоже поджигали.
У директора не получилось. Мы поджигали и потом.
В лагере ко мне относились хорошо. Хотя я был очкариком. Наверное мама поговорила, чтобы не обижали. Про Валерика и Виталика я никому не рассказывал. Но все почему-то знали, что у меня кто-то умер.
Даже в тихий час мне разрешали ходить в живой уголок, а не лежать в постели. Если днём не посплю, можно надеяться на крепкий ночной сон, без крика.
Взрослый познакомил меня с Яшей. Мы стали друзьями. Потому что дружить с кроликом, ежиком или черепахой неинтересно. А с Яшей… с Яшей дружить было трудно. Обычно он что-нибудь жевал, повернувшись ко всем спиной. Взрослый говорил, что жевать Яше вкусно и больно. Со старыми так бывает.
Мне не разрешали приносить Яше еду, но можно было попросить у Взрослого огурец – и протянуть через прутья просторной Яшиной клетки. Когда в первый раз Яша согласился взять у меня огурец, я рассмеялся и напугал его. Стало ещё смешней, потому что раньше никто меня не пугался.
Взрослый объяснил, что с Яшей надо вести себя тихо, ведь он уже совсем старый, а старики не любят шума. И я учился не шуметь в гостях у Яши. Иногда мы просто сидели друг напротив друга. Яша уже не отворачивался. Он смотрел мне в глаза, не моргая, и смешно морщил лоб. У меня тоже были морщины. Я в зеркале видел. Они мне нравились. Но у Яши их было больше. Мы играли с Яшей в гляделки. Обычно он побеждал.
И кошмары прошли. Я не заметил – как. Просто перестали сниться горящие Виталик и Валерик, а стал сниться тихий Яша. Хороший такой сон. Иногда он улыбался мне. Во сне. Наяву Яша стеснялся улыбаться. У него были плохие зубы.
Потом надо было ехать домой.
Я знал, что скажет мама, но всё равно спросил: можем ли мы забрать Яшу к себе. Потому что осенью, зимой и весной в лагере никого нет, и ему будет грустно. И мне будет грустно. Без Яши.
Мама вроде как подумала над моим предложением. И сказала: нет, Яше у нас будет тесно. Нам и вдвоём-то тесновато.
Я понимал, что не это главное. Что Яше просто нечего делать в наших полутора комнатах на четвертом этаже кирпичного дома в микрорайоне Капотня.
Мама согласилась на канарейку. Вернее, на кенара. Я назвал его Кешей. Он тоже был немного рыжим.
С Яшей мы больше не виделись.
Жопой в муравейник
Это было очень больно.
И обидно.
Потому что глупо.
В «Зое Космодемьянской» нас водили плавать на озеро. Там такие мостки. И с них надо прыгать. Было страшно, но все побежали – и я побежал. И прыгнул. Плавать я тогда еще не умел, зато умел идти на дно. Добрался я до дна, схватился за сваю, подтянулся – высунул нос. Дышу.
Я вокруг вопли и брызги. Не люблю.
Снова ушел на дно, и по дну добрался до берега.
Чувствую, пора пописать. И босой в трусах карабкаюсь на песчаный мыс, где то ли ели, то ли сосны.
Вскарабкался. Чувствую, не писать мне пора.
Присел. Смотрю на ужасное внизу. Никто меня не видит. Хорошо.
И тут случилось страшное. Очень болезненное. Совершенно несправедливое. Кто-то вдруг хвать меня! За это самое. Ну, у мальчиков есть, у девочек нету.
Кааак я кричал! Я тааак кричал, что снизу ко мне бросились все лагерные мучительницы разом.
О, ужас. Как быть?
Натягиваю трусы.
А они бегут.
Что им сказать-то? Что меня туда укусили?
Позору…
Оглядываюсь. Кругом вереницы рыжих муравьёв.
А они бегут. Мучительницы.
И тут, о чудо, вижу Огромный Белый Гриб. Мне по колено.
Я его вытаскиваю и поднимаю над головой.
Они добегают.
– Ого, Финкель, вот это Гриб! Ты поэтому так кричал?
– Ну, да.
– А ты знаешь, Женя, что посреди муравейника голый стоишь?
– Ой.
Ванна
Как же я мечтал о своей. Белоснежной, глубокой, тёплой, с игрушками. И чтобы никто не стучал в дверь. И чтобы с пеной.
У нас с мамой в Капотне ванной не было. Слева по узкому коридору, который заканчивался крохотной кухней, была такая прореха в стене, в ней можно было стоя замуровать одного человека, не больше. Внутри помещались краны и душ на длинной ржавой трубе. Вверху желтела тусклая лампочка. Внизу зияла дыра для слива воды, прикрытая решеткой. Чтобы набрать воду, надо был взять две лыковые мочалки, залепить ими дыру и сесть на них попой. Если постараться, можно было набрать до пупа. Мама так не делала, только я.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
