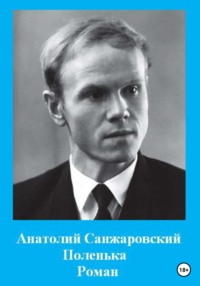
Поленька
– Ну да! Приставущой, неотвязный… У Бога кобылу выпросит!
– Не журись особо. В хозяйстве сгодится… С летами молодое пиво уходится. А пока молодчага непромах, ухватистый.
– Оно и видно. Первый раз бесстыжа баче человека и давай про сватов молотить!
– Умно! Головки́ нигде не теряются!
– А кто эти Головки?
– Оё! Ну голова ж я и три уха! Да я ж совсемушка забыла тебе досказать… Головки – это ж Никишка твой! Это ж их так по-уличному… На нашей Ниструго́вке они Головки и Головки… Головастые значится! А самого, Борис Андреича, кто называет дед Бойка, а кто и проще – Головок. А саме чудно́е – вы однофамилики! Вы Долговы и они, – глянула в окно на соседский двор, – и они Долговы. Это не шутейное дело. Это сверху… От Бога… Боженька вас свёл в божьем месте… Божье дело варится… Ты должна хорошенечку подумати…
– Ох, тётя, думаю. Аж голова репается! – отмахнулась Поля.
– Ты-то ручонками не маши. Ты думай. И делай, как делают умные люди. У тебя Никишина примерность перед носом лежит… Добрый пример… С первого взгляда парубок оценил! Наравится, на глазу киска – чего попусту воду лить? А ты-то что?
– А я говорю, не горячись сильно. А то кровушку взапортишь.
– С больша ума бухнула! Да-а, девонька, коса у тебя до пят. А всё одно без ума голова – лукошко. Ну блажи у тебя, Полька! Ну на весь Собацкий! Ещё и на Криушу достанется. Да нашей ли сестре фордыбачиться, обдери те пятки? Не кусать бы посля локоточек. Ну, разбери по уму, чего его кочевряжиться? Ломайся не ломайся, а упрямилась нитка за иголкой, да протащилась. Иля, може, он тебе не по вкусу?
– Какой-то беласый[13]… Так оно вроде и ничо, да ростом бедняк. Не выше ж петуха.
– У-у! Тожа мне дамка из Амстердамка! Балабайка чёртова! Совсем ухаяла парубка! Не выше петуха… Что ж он, совсем какая камагорка? Ну невысокий. Так про то ни речи. Но не петух же! А что ж тебе надобно два аршина да три палки? Собак на ём резаных вешать иле звезды им сшибать?
Поля кончила есть, молчала, соглашалась внутренне и не соглашалась с доводами тётушки, но не выказывала открыто несогласия, чем тешила тётушкино самолюбие.
– А у него, тётя, кабы сказать не сбрехать, – припоминала Поля, – и ýха смешные… Ушастик…
– Оглянись, коза, на свои рога! Ты-то у нас, всеконешно, раскрасавка. Только б хорошо к этим глазкам ещё и головку помозговитей. А то там им, двум фонарям на пустой каланче, цена невеличка. Чего уж слова терять впусте, некрут наварок.
– Уж какой ни есть, а весь мой. Не бойтеся, в окно гляну, конь не прянет со страху.
– Хорохоришься всё, девойка… Иле думаешь, красивую жену в стенку кто врежа? Неа, не врежа ни один супружик… А за умным хозяином и хозяйка – хозяйка. Чем отшивать такого уважителя, лучше б, кавалерка, подумала про приданое своё. Что там у тебя? Гребешок да веник да с алтын денег найдéтся?
Поля не отвечала.
Ей осточертела эта бесконечная болтушенция, пустая, нудная; она уже мялась у двери, не смела прервать тётушку, но и не смела уйти вот так, не попрощавшись. Такой вольности со старшими ей не попустят ни дома, ни в людях где, и она, переминаясь с ноги на ногу у порога, покорно ждала, пока тётушка не смолкнет. Однако тётушке, по всему видать, трудно было даже остановиться, поскольку пружина на такой разговор крепко была в ней заведена до бесконечности. Так, по крайней мере, казалось Поле. Своё заключение девушка вывела из того, что тётушка говорила как по пальцам, гладко, слова лились из неё однозвучно, ровно, будто из вечного родника.
Неожиданно тётушка затихла. У неё пересохло горло и пока пила она кисель, начисто потеряла нить слов своих. Это даже как-то напугало её. Она конфузливо морщила и без того морщинистый лоб, силилась вспомнить, что ж такое тренькала, но никак не могла вспомнить, и тогда спросила Полю, на чем она заглохла. Поля окончательно спихнула её с мысли, почти выкрикнула, боясь не выпередить её:
– Вы сбирались проститься, тётя!
На удивленье, тётушка как-то послушно положила сухие руки Поле на плечи. Женщины расцеловались, расцеловались трижды, после каждого поцелуя коротко отстраняясь верхом и словно бы любуясь в восторге друг дружкой.
Минутой потом тётушка приникла к окну, следила, как Поля улочкой шла в сторону большака. От страшного любопытства у тётушки захватило дух, когда Поля едва поровнялась с высокими тесовыми воротами соседскими. Пойдёт не пойдёт, пойдёт не пойдёт, гадала тётушка, сгорая от ожидания. Она чуть не вскрикнула от изумления, когда всё из тех же ворот воровски выдернулся Никиша и понуро качнулся считать девчачьи следы, не смея ни окликнуть Полю, ни духом нагнать её.
– Эй-ге-ге-е! – зацокала тётушка языком. – Не замёрзнет лавочка наша с товаром, поцелуй тебя комар!
Молодые шли локоть к локтю в тягостном молчании, будто шли они на кладбище к кому самому дорогому, погребенному в их отсутствие, и теперь каждый, казалось, думал про то, что скажет перед свежим ещё холмиком.
На околице Поля остановила шаг.
– Ну а дальшь, – она посмотрела на синий вдали за полем лес, куда вела её дорога, – не треба. Надальшь я сама…
– А что… если я… приду к вам на лужок?[14] – нежданно для самого себя в тревоге выжал Никита и осторожно, бережно глянул на Полю.
– А я разь запрещаю? – уклончиво ответила Поля. – Ваши криушанские табунками к нам на гармошку надбегают.
– А ты-то бываешь там?
– Пустять батько-матирь, приду часом.
– Ты так надвое говоришь…
– А натрое я не умею.
– Даве вот ты, – мучительно, журливо говорил Никита, – сказала, что я не знаю, как тебя и зовут…
– И назараз то же в повтор скажу.
– П-Поля…
– Стороной где прознал?
– Зачем же стороной? Ты ещё говорила, что вижу я тебя впервые…
– Ну второй раз за сёни.
– В тысячный! Иль ты совсем забыла прошлое лето? Больная тётка… совсем плохая… Сам, старик её, пас скотину, так ты полных три месяца одна ходила за тёткой, и был ли день, спроси, чтоб не видал я тебя? Я часами лежал по сю сторону плетня, наблюдал, как ты в летней кухоньке готовила, как стирала под яблоней, как… Это ты не видишь людей… И невжель ты серьёзно думаешь, с кислой лихоманки пошёл я плести про сватов?
Напряжённо, подломленно Никиша смотрел Поле прямо в глаза.
Поля не вынесла этого взгляда отчаяния, растерянно заморгала. Вовсе не понимая, как это за ней следили всё давешнее лето, зачем это кому-то нужно было, она глухо выдавила:
– С лихоманки, не с лихоманки… Тебе лучше знать. Только тутечки большина, остатне слово, не за мной… У меня ще батько-матирь е…
Поля сострадательно улыбнулась одними губами и медленно побрела по дороге. Она б наверное не воспротивилась, насмелься Никита и дальше провожать, но её слова «Надальшь я сама» стояли у него в ушах, не давали ему силы сделать хоть шаг в её сторону.
«Ты не велишь мне больше провожать тебя, да песне-то ты не запретишь этого».
И он запел – как заплакал:
– Нехай так, нехай сяк,Нехай будэ гречка.[15]Не дала мени словечка,Нехай будэ гречка…Степной ласковый ветер то услужливо подносил, то тут же со злобной игривостью отбрасывал жалобные слова парня. Поля в грустной печали вслушивалась в них, по временам останавливалась, задерживала дыхание, чтоб ясней разобрать, но это давалось ей всё трудней; с каждым шагом голос падал в силе от растущей дали, слова дрожали в молодом весеннем воздухе всё размытей, всё глуше.
Апрельские ручьи будили землю. Давно уже грач зиму расклевал – вешним паром отогревались, отходили вокруг поля, под жарким по-июньски солнцем прела пашня.
Поля думала про то, что вот уже вербы у речки, петлявшей вдоль дороги, разрядились в жёлтые пуховые шали, и жирная, сочная полая вода крушила в Криуше, в ериках берега; думала про то, что вот с наступлением тепла уже веселей кудесничалось[16] матери: под шестом сверчок пел песни ей.
Со степи дорога взяла вправо, в березняк. Хотелось пить. На счастье, у обочины добрая рука повесила на сучок высокую березовую кружку, повесила нарочно. Пей, путник, сколько твоя примет душенька! Кругом стояли без счёта дубовые цыбарки. В те цыбарки не то что капал с лотков – лил ручьём, журчал сок. Куда как много, гибель его из березы бежало, пророча дождливое лето.
Уже вторую кружку допивала Поля, как где-то за спиной она явственно расслышала перестрел сухих сучьев. Однако значения никакого не придала. Ну да мало ли кто мог там быть! Птица, может, какая тяжёлая села на сухой сук и тот, подломившись под ней, летел вниз, ломался и дробился о голые, ещё не в листьях, ветки с набряклыми почками; может, зверёк какой мелкий в погоне за добычей прошил гору валежника. Скоро потрескивание заслышалось совсем рядом. Полю подпекло обернуться на шум – горячие сильные широкие ладони закрыли ей глаза, до боли заломили голову набок. Она криком закричала на весь лес – звонкий поцелуй ожёг ей полные тугие губы.
– А-а!.. Пресвятая душенька на костыликах! Вот те за все муки мои!
Сергей прочно обнял девушку, потянулся за вторым поцелуем. Поля резко дёрнулась вниз, вывернулась из кольца железных лапищ и что было мочи огрела прокудника дном кружки по лбу. Он отпрянул за дерево, прикрыл лоб гробиком ладони.
– Мда-а, – зажаловался, – играешь с кошкой, терпи царапины. Если б одни царапины… Слушай! Точно вот так штампуют инвалидов четвёртой группы. Варакушка,[17] да ты что! Неужели я сюда за столько верст лишь за тем и пёрся, чтоб в благодарность за моё усердие схлопотать по лобешнику?.. И-и-и… Рискованно целовать молодую тигрицу… Не знаешь, как ответит…
Глаза у Поли налились обидой.
– От кобелюка! З цепу зирвався? До смерточки ж выпужал!
– Подумаешь, трагедия двадцатого века. Поцеловали! Не бойся, поцелуй дырки не делает. А если тебе его жалко, так на́ его назад! На́! Мне чужого не надь!
Шельмовато похохатывая, будто ронял горошины молодого баска, Сергей ладился опять обнять девушку – крепкий огрев лозинкой по пальцам вытянутой руки заставил его судорожно вздрогнуть, отступиться.
– Хох, какая ледяная решимость… Ну чего ты вся из себя… – шёлково подсыпался Сергей. – Прям дышать нечем… Гордынюшка так и распирает её. К чему этот спектаклишко? К чему коготочки выпускать? А? Ну!.. Варакушка, не глупи. Вокруг ни души… Никто не видит…
– А сами мы шо, нелюди? Зверьё разве якэ? А совесть не бачэ? Не бачэ? – В ярости Поля кинула кружку на прежний сучок, выхватила из-под ноги корягу.
Сергей глубокомысленно почесал в затылке.
– На кого с дубьём? А?.. Позвольте, Полина Сердитовна, помочь вам нести вашу палицу. Не убивайте во мне светлые порывы, пожалуйте палицу, – с игривой вкрадчивой учтивостью канючил парень. Втайне он надеялся хоть вот так завладеть грозной суковатой палкой и смиренно, просительно и не без опаски протянул обе руки принять её.
Казалось, Поля не слышала ни его пустых слов, не видела ни его в услуге простёртых рук. Помахивая перед собой в нарочитой небрежности кривулиной, она перепрыгнула через канаву и пошла по большаку.
Сергей поскрёбся следом.
– Приходи сегодня на улицу на Середянку. Я балабаечку возьму… Потрындыкаю…
– И не забудь выпросить у сеструли Анютки чем подрумянить щёки? – колковато кинула она.
– Для тебя для одной чего ж не подрумяниться?
– Мне без разницы…
– А я дурило думал, обрадую, – с досадой и вместе с тем с какой-то зябкой надеждой удручённо пробубнил он. – Примчался вчера к нам Егорка со своим солнушком ну и вывали, где ты, что ты. А дело к сумеркам. Я вперехватку и кинься на рысях в Криушу. Прождал в Кониковом леске[18] до звёзд ясных… Сёне с зорьки дежурю… Все ножульки отходил… В стаду не пошёл вон!..
– Ка-ак не пошёл? Ты ноне череду[19] не пас?
– Пасу вот. Тебя.
– Шо люди скажуть?
– Эти кулачики? Для них у меня пасёное словцо за щекой. Плевать! Отъем один круг[20] да и шатнусь по найму к другим!
– Ты такой пустодыря?
– Поляха! Ты на меня особо не косись… Я, может статься, ещё в институтцы впрыгну!
– Ты? У тебя ж в кармашке тилько три классы!
– Эка печалища! А я заочным бéгом и школу добью, и до институтского дипломища докувыркаюсь. Так что цени! А ты…
– А ты, последуш, правь иль большаком, иль стёжкой. Тилько не топчи следы мои. Выбирай.
Поля стала у развилки, откуда и той, и той дорогой можно было попасть в Собацкий, чуже ждала, когда Сергей пойдёт вперёд, чтоб потом и себе пуститься другим путём. Но Сергей не уходил, примирительно, извинительно выжидал в надежде, что что-то изменится, вовсе никак не верил, что может быть что-то иное в их отношениях кроме торжества его воли. Он не хотел иной дороги, где рядом с ним не было бы Поли. Поля же стояла совсем какая-то зачужелая, совсем не та, что вчера у криницы. Сурово поджала губы, глаза безучастные. Сергей чутьём угадал открывшуюся между ними пропасть, разом сник.
– Не, – медленно, тяжело повела она головой из стороны в сторону, – не жди. Не ходить одной нам дорогою…
Ей надоело ждать. Она ходко взяла стёжкой. В гору. Так было ближе.
Сергей побрёл за нею.
– Так кому я – ветру сказала? – Поля снова остановилась. – Лошадь за делом, а на шо лошаку бежать вследки так? Да не приведи Господь кто из наших, из хуторянских, побаче нас напару – неславы довеку не оберéшься. Ну на шо такие игрушки?
– Увидят не увидят… Это всё ещё в волнах… А тут вот это благоприобретение… Это солнушко… – Сергей с заботой, осторожно обвёл пальцем просторно севшую на лоб шишку. – Это архитектурное излишество мне как-то вовсе ни к чему. Как бельмо на глазу.
Поля усмехнулась уголками рта.
– То пчёлка меду дала, какого ты и хотел… – И взяла голос построже: – А увяжешься за мной, ще разживэшься медком!
Невесело, через силу улыбнулся Сергей, скрестил руки на груди и с грустью смотрел Поле в спину, покуда не пропала девушка за возвысьем из виду.
Цепкие неспокойные глаза уже не могли отыскать-догнать за горизонтом девушку, а он всё стоял и в тоске думал, отчего же всё так нелепо крутнулось. Насколько он понимал, каждый давешний взгляд Поли сулил высокую радость от уединения. Он ждал, долго выжидал случай, нарочно подгадывал тот момент золотой, чтоб сойтись в лесу с Полей одним-одни. Но вот быть-то были одним-одни, а вылепилась какая-то грязь. Ему стыдно стало всего того; в смятении благодарил он судьбу, что ничего особо худого у них не выплелось – и слава Богу.
6
Вдруг сердечко пылкоеЗажглось, раскалилося,Забилось и искрамиПо груди запрядало.На неделе, в среду, Владимир подпылил на своей бричке за семенной гирькой, и Олена насыпала такой ворох новостей, такой ворох пьянящей радости, что у него едва не подломились ноги. Он только на то и нашёл силы, что сгрёб картузишко с головы да и хлоп им об пол.
– Грай, музыка, а то струмент побью! А! Полька! Я думал, она у меня ни куе, ни меле. А она… Ит ты! Говорила ж душа, не чета горбыльский бычок! Сам гол, а руки в пазухе… Ха-ха-ха! Оставайся, Горбуля, как рак на мели да хоть землю гложи! Мне-то шо за печаль?! Девку мою в богатский дом манят. А коли так, так и пышку в мак! Вот моя на то согласность! – Володьша воображаемой иконой перекрестил воображаемых жениха и невесту, что стояли перед ним на коленях в ожидании благословения. – Да, да! За этого за твоего Никитку я с большим сердцем отдам и душа не боли!
Олена привыкла ко всяким житейским разностям и никак не ожидала, что весьма обстоятельный её рассказ про жениха так живо примет Володьша. Неистовый его восторг несколько пугал её.
– Быстро ты, Вовуня, выпихнул не глядючи. А Полька пока молчит? Или как?
– Молчит. И хай молчит! Ит ты, говорить буду я. Я свою Сашоню увидал попервах под венцом. Повезли нас родители в церкву, никто не спросил, ну як ты, Володушка, довольный? Никто! А невжеле я испрошу? Невжеле я испрошу её соизволения? А этих пять братов, – Владимир потряс кулаком, – она у меня видала?
– Угроза не подмощница. Хоть бы для блезиру спросил. Ведь не ранешние, не старопрежние времена.
– Смалкивай, глуха, меньшь греха… Ох и сказанула, як в лужу ахнула. Ну и шо ж из того, шо новые времена? Девка-то моя! Ка-ак ни вертану, а с отчётцем в том не побегу ни к кому.
Минуло полных семь дней.
Однако желанный парубок отчего-то всё не казал носа, и Володьша сам побежал на поклон в Криушу, засуетился полегоньку наставлять свояченицу уму, как его половчей подкатить колёсушки к женишку.
– Оё, Вован, что ж ты старую кобылу учишь, как овёс жевать? – обиделась Олена. – Да я на этом овсе все четыре умных зуба стёрла! Не паникуй, блинохват, – отойдя от обиды, она со сладостью в голосе хватила заверять гостя, что всё будет исполнено в наилучшем духе, и Володьше, и ещё больше самой напрашивающейся в свахи Олене нравились её клятвенные заверения вернуть парня под начатое начало, напомнить ему хорошенечку про всё и если понадобится (а это понадобится обязательно, в этом никто из них не сомневался), помочь ему советом, а равно и делом – одно слово, деликатная беседа с бесконечными развернутыми уточнениями во всех подробностях выскочила на радость обоим просторная, они с медово-сладкими лицами засиделись за ней так долго, что Володьша поехал назад совсем в ночь, уже при звёздах, улыбчивых, весёлых. И чудилось ему, что «звезды висели на светящихся нитях».
На следующий день, в четверток, Олена встала разом с солнцем. Для апреля слишком поздно. Вставала она в обыденку, когда ещё черти не играли в булку.[21] До восхода солнца.
– Ах ты и сатаниха! – честила себя бабка, промокая и протирая слезливые со сна глаза сжамканным углом платка. – А! Чтоб тебя совсем!
Без обычной проворности хлопотала она по дому так, что оторви да брось, и была тому причина: почти всё утро проторчала то у окна, то на приступках, с цыпочек засылала глаза поверх высоченного забора к соседям на подворье. Выискивала Никишу. Она уже и не чаяла увидать его сейчас. Рассудила, что он уже в поле где. А он вон пожёг с уздечкой к деннику.
– Никиш, а Никиш! – молодо заподпрыгивала на подушечках пальцев, загодя тайком вкинув пустое ведро в колодец. – А заверни сюда, ласка, на минутыньку! Подсоби горькой горюхе, подсоби-и, – клянчила с жалливой настойчивостью.
Никита бросил уздечку на кол в плетне, вошёл к ней во двор.
– А горя-то какоющее… Ведро окаянное с цепу сорвалось. Утопло. На́, приятка, – старуха подала ему багор, – поищи… А горя… С вечора не пимши… В доме ни водинки…
Край некогда Никише. Но раз соседка примирает без воды, как не помочь? Спустил он багор в колодец. Лёг на осиновый сруб, зашарил по дну, вслушиваясь в колодезную тьму. Рядом на венец припала сухой, выморочной грудкой бабка, свойски вшепнула в ухо:
– Передохни́. Потом примахнёшь.
Никиша скосил на неё удивлённые глаза.
– Я ещё не устал… А чего это Вы дедушку Василька боитесь заставить поковыряться в колодце?
– А где тот твой Василёк? Или ты не знаешь? Гляди, разоспалсе там, в певчей. Тепере допрежь обеда не жди, покудушки батюшка кадилом не подымут. Он жа, Василёк мой Борохван, – воистину вот боровок! – как говорит? Я стерегу церкву, а Господь стерегё покой мой. Так что он с Богом до полудня не распростится.
Никита крайком уха слушал бабкин треск про её мужа, церковного сторожа, и добросовестно толокся вокруг проклятущего ведра, по бокам которого глухо, коротко раз за разом чиркал багор, а взять за дужку всё никак не выходило.
– Ты, Никиша, – вкрадчиво пела под руку бабка, – не таись меня. Я не слепая, вижу всё как есть. А раз так, то я и видала тебя с Полюшкой. У меня с ней знаешь, какой разговоришко спёксе?
– Да? – Никита толкнул багор в угол сруба, мягко взял старушку за локоть. – Что же она, бабушка? Говорите! Ну…
– Спервоначалу доложь сам. Серьёзко ты к ней иля так, на два огляда, на одну мазурку? Проплясал да и к свеженькой конфетке?
– Тоже скажете! Я-то её с прошлого лета знаю. Да что! Оченько нужен ей такой страхолюд.
– Какой жа ты страхолюдец!?
Старуха картинно упёрлась кулачками в бока, весело и пристально смотрит, как бы оценивает, в самом ли деле страшен Никиша, и ничего кислого в нём не находит.
– Какой же ты страхолюдец!? – сердится она. – Это чего ты на себя наносишь? Это на что ты себя в грязь топчешь? А? Да ты, Никитарчик, любой девке сладкое поднесение! Вот мой истинный крест! – Бабка с вызовом и с достоинством перекрестилась. – Выкинь из головы, забудь своего страхолюдика. Думаешь, отец с маточкой не отдадут?
– Бабушка, – опало вполголоса проговорил Никита, наклоняясь в угол сруба к багру, колом выпирал из сумерек колодца, – да она сама ввек не потянет мою сторону.
– Не знаешь ты наше бабье племя. Ах ты, горе дитятко… Ну коли так… Один у нас с тобой блин на двох и той напополамки ломай. Одна ж заботушка! Я знаю слово. Ты скажи его на три зари: на утренню, на вечерню, на утренню снова. Попробуй запомнить это слово. Не запомнишь вдруг, я повторю ещё. Слухай… «Встану я, Никита, на утренней заре, на солносходе красного солнца и пойду из дверей в двери, из ворот в вороты, на восточную сторону, в чистое поле, – монотонно, уныло загудела бабка. Очарование, испуг подступили к сердцу, Никиша приворожённо остановил дыхание и снова оттолкнул багор. – В том чистом поле гуляет буйный ветер. Подойду я поближе, поклонюсь пониже и скажу: «Гой еси, буйный ветер, пособи и помоги мне закон получить от сего дома, и взять кого я хочу, и у того бы человека, Пелагии, ум и разум отступился и на все четыре стороны расшибся, а ко мне бы приступился и ум-разум домашних, судьбы наипаче кого хочу получить, и перевалились бы и отошли бы ко мне все ея мысли, и охоты, и забавы, и все бы их вниз по воде унесло, а на меня принесло». Ключ в море, язык в роте. Тому слову нету края и конца, от злаго человека вреда, беды и напасти. А кто бы на меня и на нее подумал недоброе и замыслил, у того человека ничего бы не последовало, и заперло бы ключами и замками, и восковыми печатями запечатало». Вот оно какое слово моё вещее… Не смотри, что такое долгое, а на память ловко ложится.
– А я не запомнил, – очнувшись, бормотнул Никиша.
– Не горюнься. Я в повтор скажу. А ты про себя тверди за мноюшкой. Наверно так запомнишь. Вот в поле нонь поедешь… Отбейсе куды в сторонку от своих. Покуда заря навроде не совсем ещё разыгралась, ты и скажи ей. Не поспеешь утренней сказать, так не карай душу. Твоя ж и вечерняя… Никто не отымает у тебя и завтрева утра зарю. У Бога дней много, а зарей вдвое того.
– А куда наш Никишка завеялся? – в недоумении крикнул из денника отец. Ему не ответили. – Ехатъ час, пошёл запрягать. До жеребца не добёг… Иля черти куда в лес по ягоды сманули?
И бабка Олена, и сам Никита слышали отца. Они смотрели друг на друга и не знали, что предпринять. А тут уж ничего и не предпримешь. Вешний день за золотой, минуты под ноги не брось. И старушка, пожевав пустым, беззубым ртом и примирясь с богохулениями Головка́, наскоро стала повторять своё слово.
Никита не смел прервать старшего, слушал, вовсе не вникал, не лез в смысл и слушал скорее так, из вежливости: в чудеса он не верил. Ну не быть же тому, думалось, сказал ветру в поле и та, в ком души не чаешь, без прекослову твоя. Такого ни с кем не бывало. И разве будет?
Но вместе с тем пленительная красота звучания слова снова затягивала его, бередила душу, заставляла с жарким восторгом вслушиваться в музыку слов, льющихся алмазами.
Бабкин голос, что твердил заговор, шёл за Никишей всюду. Никиша даже в удивленье оборачивался поглядеть на бабку, но бабки не было, и голос на тот миг пропадал. А как только Никиша отправлялся дальше, голос снова твердил ему в спину заговор, не отставал от парня.
Слова заговора, казалось, падали зерном на землю, когда Никиша разбрасывал семена, уходили в землю, когда он бежал за плугом. Бабкин голос приходил к нему в тень под бричку в короткий торопливый обед, не давал по ночам скорого сна.
Заговорные слова легли у него в голове свёрнутыми в ком рваными звеньями, вытянуть которые в одну цепь Никиша не мог. Последовательности слов он не помнил, отчего и не просил содействия в делах сердца ни у утренней, ни у вечерней зари, не звал в пособники ветер, а работал в поле не в пример как огнисто, так что старики подивились, и чего это Никишок гужи рвёт с больным усердием.
А старался он завоевать стариков, к коим, как только отсеялись, и повалился в ноги, навёл речь на сватов.
– Про то и кукушка кукук… кукует, что своего гнезда нету, – сказал отец. – Ну что, лишитель покоя, сам приглядел иль свёл кто?
– Сам.
– А где ж ты её милости доискался? Ты ж далей двора вроде и ни ногой?
– Да уж видал единожды…
Отец вгибь повёл сердитой бровью.
– Не многовато ли?.. Единожды!.. Пош-ш-шупай себе затылок, что это ты за околёсную тащишь? Иль ты взошёл в градус? Пьян, как пуговка?.. Иль, може, у тебя загорелось, на пожарь поспешаешь?
Никита дёрнулся было возразить.
Отец сделал знак рукой молчать.