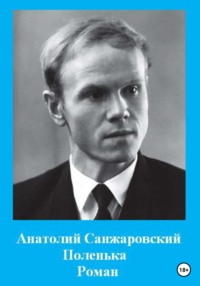
Поленька
– Подержи свой язычок на привязи. Дай доскажу. Ты мне, умелец, смотри, в струне чтоб всё было. Чтоб девка была ядрёная, в силе, в работу способная да ловкая. Про наружность, про обличье молчу. Конопатая там, рыжéй ли лисы – тебе жить. А вот ежель каличка, убогонькая, тут уж и не стану попусту сорить с тобой словами. Да ты как на духу повинись. Хоть разглядел толком, какая она из себя. Не кривая? Не болящая? Руки-ноги, по крайности, при ней в полной в наличности?
– В по-олной…
– И на том спасибушки… А трудолюбица?.. И чьих она будет?
– А я, – смутился Никиша, – почём знаю?
– А Боже! – В досаде отец было чуть не пустил в тыщи прямо с козыря, не пугнул едва по матушке, но вовремя взнуздал гнев свой, удержался. Пробормотал лишь с ядком: – Ну что ж, дружа…. Эхма, на чём только беда не лежит… Так ты что, в сам деле ни холеры не знаешь про свою красоту?
– Ну кто Вам сказал… Собачанская она. Зовут вот Поля. А чьих там она будет… Поедем сватать, в Собацком и узнаете, если так кортит Вам.
Отец кольнул Никиту насмешливым взглядом, скрестил руки на груди.
– Нам-то, Свет Борич, хоть бы и не кукарекало. Это вам приспичило чёртову лихоманку затеять. Подбивает ехать сватать, а кого – сам не знает! Такого в роду у нас ещё не бывалко.
– А теперь вот будет.
– На резвом коне кто ездит жениться?
– А мне другого не надо. Плотно видал раз – мне по ноздри доволько! Хорошего человека и с первых глаз разве не видать? – твёрдо, но едва слышно проговорил Никиша.
– С горячих молодых глаз уже и ценушка красная выставлена. Хо-ро-ша-я…
Отец замолчал, цепко вглядывается в сына.
Борису Андреевичу нравилось, что Никиша твёрд в своем решении, и непреклонность, уверенность сына неспешной надёжной силой брали в полон и родительское чутьё. Оно подсказывало старику, что не ошибался Никита в выборе.
Может, думал отец, и хорошая: ум бороды не ждёт. Ну что ж, раз нашла такая линия – будь она турецкая! – скованному всё золотой твой верх. Понятно, можно было какой и подождать годок. А кинешь так умком, чего ж его ждать, коли судьба подъехала?
– Без жены, – уже уступчиво рассуждал он вслух, – и при родителях сын на возрасте пускай и не лишний в семье, как перезрелка дочка, а круглый всё ж сирота и сверху, и снизу, и с боков. А вдвоем всё веселей. Семейная кашка всё погуще кипит. И потом, не пускай мимо счёта нас, стариков. Мы с бабкой уже под досадливыми годами. Пособницу в дом край ой надо. Покуда ходим, покуда дышим, надобно тебя в закон произвесть.
7
За нежный поцелуй, за встречу,За блеск приветливых очей,За жар любви, за звук речейЯ б голову понес на сечу.В сваты Никиша кинулся присоглашать обоих Борохванов. Но дед – сидел у окна за шитьём черевичек бабке – очень сконфузился, когда узнал, чего это Никита припостучал к ним.
– Ну ты, парнюха, учудил, – с ласковой укоризной говорил дед, не пуская из рук дела. – Ну какая из меня ловчивая кошка? Ну какой, едри-копалка, из меня ловильщик лисиц? А? Я ж твою-то лисицу в разнепременности напугать напугаю, а догнать не догоню. Что за резон тебе от такого ловильщика?.. А меж нами, я сам был пойман, как мышонок, во-он той лисой, – старик ткнул шилом в Олену, такую же коротенькую, сухонькую, как и он сам.
Старуха сидела на скрыне с клубком, нитка с которого стекала к лежавшему на полу веретену, и дремала. Она стремительно роняла голову и тут же, через самые малые секунды, ещё стремительней подымала её, не открывая глаз, и снова роняла.
– Никиш, – дед посмеивался одними глазами, толкнул парня локтем в бок, – да ты только полюбуйся, как потешно моя дама-дамесса ловя окунёв. – И так же тихо бросил бабке: – Лови, лови. Вечером наварим ухи.
Бабка не проснулась.
Старик высмелел, заговорил в полный голос.
– Вишь, Никит, какая непотреба. Сповадилась моя королевишна за делом спать. Ночь спать… Ладно. Но в день тоже спать… На меня часом гарчит пояростней цепной волчицы. Но нейдёт всё то ей в пользу, скажу я тебе. Как была с головы костлява, а с заду препакостна, да так на том и засохла.
Однако старуха, оказывается, вовсе и не спала. Заслышала про себя такое, побелела белей молока, затряслась вся.
– А! Вот ты, старый репей, как поёшь, родимец тебя уходи! Красавчик! Арбузом голова, клином нос! Прибью, чтоб свет не поганил ты, анчутка беспятый!..
И вслед поношениям полетело в старика всё, что могло летать и было подле: клубок, веретено, веник, скамеечка из-под ног.
Лёгкий на ход старик предусмотрительно снялся с места, как воробушек с гнезда, метнулся к порожкам, бормоча: «Ну разошлась, как молонья! Ой… Один с огнём, другой с полымем… А Господи… Одно горе не горе, как бы с два не было…»
И уже снаружи, из сеней, просунул свою маленькую головку с кулачок в прираскрытую дверь, буркнул оторопелому Никише:
– Со мнойкой ты проловишься!.. Во кто у нас страшной охотник на лисиц! – повёл взгляд к бабке, что бегала горячими глазками по хате в поисках чего бы такого, чем бы не жаль чувствительно дать раза старому малахольнику. – Во кто в ловитве генералка! С ней и поняй. Она тебе любую лису слакомит. А я сбегаю пересижу грозу в лозинках где.
Дверь закрывалась, когда бабка шваркнула в уменьшавшуюся полоску света рубель.[22] Рубель ухнулся уже у закрытой двери.
В тяжёлой досаде покосилась бабке на рубель. Со вздохом вытерла руки о подол юбки и спроста улыбнулась Никите, велела проходить к столу.
Загадочно, с достоинством улыбалась бабка и в тихий июньский вечер, когда на крытой бричке въезжала в Собацкий. В нарядах, отдававших ещё нафталином, рядом восседали Никишины отец с матерью. Сам Никиша был за кучера.
Бричка мягко катилась по гладкой дороге.
– Тэ-эк… Где-сь здеся в старину чудил панок Собацкий… Но у нас и своих чудов выше головушки… Это уже Криничный яр. Вона иха дом. Напроть там и станешь, – сказала Олена Никише.
Старик бросил глаза, куда показывала Олена рукой, выставил своё:
– А стань-ка тут, сыну.
– Зачем тута? – восстала Олена. – Хата Долговых, ваших однофамиликов, следующая. А это соседи будут. Горбыли-Кисели.
– К соседям и завернём. Соседи враз нам и раскроют карты, что то за тёмный за товарец едемо торговать, что то за славушка шаста про неё по людям. Не тебя учить… Невеста, что лошадь, товарец тё-ё-о-омнай…
– Да я за свой товарко головой поручусь! – в обиде пыхнула Олена.
«Иле ново? – подумал старик. – Одна сваха за чужую божится душу…»
– Не бойсе, не промахнёсся… Положи мне веру на слово, Боюшка…
Старик промолчал. Степенно, с чужеватинкой слез с брички, помог сойти и свахе. Наказал Никите с матерью оставаться в бричке, первым потянул шаг к калитке.
Уже смеркалось. Света в хате не было. Зато впрах широко размахнуты окна в надежде, что лунный сиротский свет заменит лампу. По бедности огонь в этой кособокой хатёшке не спешили зажигать.
Откуда-то из недр слепого куренька заслышалась тихая, глухая песня. Старик пристыл на месте, рукой дал знак Олене – брела следом. Стой! Не рушь песню.
– Ой ты, ноченька,Ночка тёмная,Ночка тёмнаяДа ночь осенняя.Что ж ты, ноченька,Притуманилась?Что ж, осенняя,Принахмурилась?Или нет у тебяЯсна месяца?Или нет у тебяЯрких звёздочек?Что ж ты, девица,Притуманилась?Что ж ты, красная,Припечалилась?Али нет у тебяОтца, матери?Али нет у тебяДруга милого?Как же мне, девице,Не туманиться?Как же мне, красной,Не печалиться?Нет у меня, девицы,Отца-матери,Только есть у меняМил-сердечный друг,Да и тот со мнойНе в ладу живёт,Не в ладу живёт,Все ругается.Подорожником легла песня старику на душу. Однако он встрепенулся и, боясь, что в темноте снова запоют и он не сможет оборвать, торопливо крикнул в окно:
– Агов! А кто там в хате?
В окне обозначилась с ножом в одной руке и с картофелиной в другой Анюта, сестра Сергея.
– А вы ж чего, дивчинко, без огня говеете?
– А мы, почитай, другого и не знаем света. Днём солнышко наше. Вечером месяцок наш, – оттрепала Анюта.
– А как тучи? – подпустила Олена.
– Быстрей спать ложимся… Зараз все наши ещё в поле, одна я с матерью по дому правлюсь. Звездочки подсвечивают, скоро месяц выглянет…
– Ну, нам месяц без надобности, – легонько махнул рукой старик. – Не могла б ты на секунд позвать родительшу?
Горбылиха всё слышала и без зова приявилась в окне рядом с дочкой. Спросила:
– А чем я могу вам быть в полезность?
– А вот чем, хозяечко. – Старик приосанился. – В соседях у вас Долговы…
– День в день всю жизню в соседях, – подтвердила Горбылиха. Недоброе предчувствие тронуло её.
– У них дочка́… Пелагия прозвание имеет. Так как она?
Что за девка?
– А я и ничего такого не умею сказать. Похвальба одна… Работяща… Прясть-вязать може дажно хорошо. Негулёна… На лицо ловкая… Счастливая с лица… Лазоревый цветочек…
«Ты смотри… А товарушко не такой уж и тё-ёмнай», – удовлетворённо хмыкнул старик.
Олена обварила его уничтожающе-победным взглядом, накатилась с ласковым покором:
– Ну что, комарь-комарик, подточил носу?! Э-эха-а!.. А ты, отдери те пятки, сомненью волюшку дал, распустил гужи. Да невжеле взялась ба я сватать за твоего какую непутёху? Ну подумай!
– Со скуки за что ваша сестра ни берётся, – подпихнул голубка Борис Андреевич.
– Со скуки и люди родятся, – лениво огрызнулась Олена. – Только верь, сваха всё знает!
– Знама песня. На свашенькиных речах хоть садись да катись. Вот уж петля, вот уже петелька! До чего хитруля…
– Боряха, от людей совестно. Ну накинь ты молчанку на роток.
– А чтоб тебя младенская перекосила! – захлёбисто прошептал старик. – Я-то об чём хлопочу? Помолчи сама. Мне в горячей желательности соседьев мнение до точки выколупнуть.
Борис Андреевич подступил вплоть к окну. Тут Анюта утянулась в сумерки хаты. Дед подбавил сил голосу и нарочито громко спросил Горбылиху:
– А что, добрая душа, на твои вот если глаза, из Пелагии будет хозяйка?
Горбылиха смешалась. Она знала, что Сергуня души не чаял в Поле, не в равнодушности к нему была и Поля. Так почему тогда эти незнакомые бояре налетели забрать нашу Полю?
«Ну да, у сына забрать…» – сказала самой себе Горбылиха и оцепенела. У неё не было сил на ответ. Она отрешенно уставилась перед собой.
Старик склонил голову вбок, пристально вгляделся в Горбылиху. В тревоге спросил:
– Вам, часом, не худо?
– Нет…
– Так будет из…
Горбылиха подняла на деда тяжёлые глаза.
– Об чужом деле что зубы оббивать-то мне?..
Старик почувствовал, что разговор выходил внавязку, что к тому, о чем толковал, здесь относились не без разницы. Он хотел было отступиться вовсе, повернуться и уйти. Но вместо того спросил мягко:
– А не могли бы вы уважить нашу остатнюю просьбицу?.. Присогласите Пелагию сюда…
– Я схожу! – крикнула из мрака хаты Анюта.
Минут пять спустя за Анютой по улочке шла Поля.
Из темноты, от брички, к ней выпнулся Никита.
– П-П-Поля!.. – отрывисто забормотал он. – Милинка… Я вот… – показал на отца и бабку Олену, выходили навстречу с горбылёвского двора. – Я привёз вот… своих… Привёз сватать тебя… Ну, так пойдёшь?.. А?..
Поля горестно плеснула руками.
– Господи! Ну разве я пеньку в лесе твердила?.. Е у мэнэ батько-матирь. З ними и балакайте.
Поля резко повернулась и ушла.
«Можно пытать счастья», – заключил про себя старик. Он слышал вмельк Полю и взял к калитке, за которой она только что пропала.
Уже у самого крыльца старика обогнала Олена, первая ступила правой ногой на первую от земли ступеньку. Кинула важный взор к старику, к тяжело семенящей за ним его рассыпчатой хозяйке Надежде Мироновне (Никита остался у брички), величаво сказала:
– Как нога стоит моя твёрдо и крепко, так слово моё будет твёрдо и лепко. Твёрже камня, лепче клею и серы сосновой, острее булатного ножа. Что задумано да исполнится!
«Уха-а, затрещала трещотка, – одобрительно подмигнул старик. – Откуда что и хватает! Воистину, не выбирай невесту, выбери сваху. Ну, молоти, молоти. Только какого умолота-то ждать?»
Дробно постучал дед в низ ярко освещённого окна. Света в хате много. Казалось, там ему тесно, он широкими потоками выливался в палисадник.
Вышел Владимир Арсеньевич.
– Доброго здоровьица, хозяин, – с лёгким поклоном проговорил Борис Андреевич. – Мы чужедальники. Допусти с дороги, с устали передохнуть.
– Ступайте с Богом щэ куда. А у мене и так не повернутысь.
– А народишко мы негордый, нам в уголочке там игде…
– Ит ты, беда! Ну раз Вам податься некуда, заходьте.
Только это сваты через порог – на белом новом платке старик подаёт паляницу Владимиру Арсеньевичу.
– Примите хлеб-соль и нас за гостей.
Владимир Арсеньевич кладёт хлеб на стол.
– Милости прошу, сидайте! Будьте гостями… Далече путь-то держите?
– А мы, каемся как на духу, гонимся за лисицей. – Олена улыбнулась Володьше и остановила на нём выразительный взгляд: ну что, видал, как живёхонько нагнала я к тебе купцов на товар твой? Вишь, кланяются тебе в самые ножки. – Так вот, наскокли мы на след. А след и стрельни к Вам. Во-ота где наша лисица, красна девица. Раскипелись у нас глазоньки подловить её.
– Бэ-бэ-бэ-э! – весело откликается Владимир Арсеньевич. – Да вы двором промахнулись. Нетушки Вашей лисички тут.
– Ой ле! Справлялись у хуторских, так все показали – просквозила наша красунья именно вот сюда.
Торг этот, в котором все роли до последнего слова ловко разложены самим народом ещё в староветхие лета, не лишенный потешности и вместе с тем первобытной, нетронутой чистоты и прелести, длится допоздняка. Пустосваты (в первый засыл на проведку они, по обычаю, должны уйти ни с чем) просят отдать Пелагию за Никиту. Хозяева вперехват находят всякие увёртки. На их слова, невеста ещё молода, как о Спасе ягня, в тело ещё не вошла, не знает даже, как держать и веник…
При этом хлеб возвращается пустосватам. Упрямые пустосваты отдают его снова хозяевам. Так тянется Бог весть сколько, покуда наконец хлеб не вручается гостям со словами:
– Будем мы Ваши – сыщете нас. А выйдет случай – найдёте получше нас.
Чинно, обстоятельно проводил Владимир Арсеньевич гостей. Позвал в боковушку и Сашоню, и Полю.
– Ну шо, бабочки, доколе в кулак сморкатысь? Самое времечко приспело об деле напрямки решать. Шо со сватами? Сёни мы выдержали свою марку, свой форс – поклон с хохлом и спровадили с Богом. Но завтра их знову жди. С пуста отправлять и завтра или как? Шугни с пуста – треть-яка засыла не выглядай, раззнайся с женихом. Так як?
Мать и дочка молчали.
В нетерпении спросил отец:
– Полька! Ты-то чего молчаком уставилась в пол, як коза в афишку? Слова из тебе кусачками тянуть?
– Смотрить сами, тато. Воля Ваша…
Отцу не понравилось безразличие дочери, какая-то её неопределённость, скорее похожая на слабое, размытое возражение, но – возражение, отчего отец и накинь в голос власти:
– Ит ты! Воля-то моя, да жить-то тебе, головонька! Иль мне не кортит положить в счётец твое желание? Иль своей я дочке супостат?
– Про то и я думаю, тато…
– Бач, она думае! Про шо ж ты думаешь? Про то, шо я супостатий?
– Я так не думаю… Тато, – Поля сбавила тон до шёпота, – а шо бы нам не подождать?..
– Ко-го-о? Анститутца? Голопузого прынца горбылёвского? Ну, Полька, у тебя в голове десятой клёпки недостачушка! – гневно, матёро пустил батька. – Вот уж наказал Бог дитятком. Иль ты слепа? Иль ты… Да не с нашего он огорода овощ! Прождешь… Проплывуть счастливые года, як вода… А посля анститута побегить с тобой под венец – мелком по текучей воде писано! Про той анститут этой лоботрух[23] тольке торохтотит кажной сороке. А вступе он туда, не вступе – кто зна? Да и потома!.. Какой в бисах анститут? Этому жердяю уже настукало девятнадцать годов! А у него лише три классы нашей хуторянской школухи! Когда остальные классы думае добирати? Об каком анституте этой горькой пастушара ляпае?.. Анадысь череду не пошёл стерегти. Ну, это в уме человек? Чего такому подносить жизню на блюдке? Он кошку голодом уморит! Ну, об какой жане ему чиликати?
Отец дёрнулся, отвернулся от дочки.
«По мне, жди, жди вчерашней зорьки! – злобно подумал. – А ну и дождешься, с чем он к тебе уявится? В гнилой хатёхе у тех Горбылей всего и капиталищу, шо три консомольских билета. Консомолу по-олный табун… Чёрт на печку не вскинет. А рубахи путящой одной на всех нету. Дело?.. Нам Никишок впору, самый раз… Там домяка! Как церква! Там царь-сад!.. Своя мельница. Своя бричка. Свои кони. Разодеты – князья!..»
– Голубонька! – отходчиво шатнулся отец к дочке. – Ты шо же, пойдéшь к этим Киселям, – кивнул в сторону горбылёвской хаты, – квасолю одну пустую йисты? Пустющие люди! Живут ни вон ни в избу. Одни песенки на уме. Живут припеваючи, хоть – он ядовито хохотнул, – хоть бы раз поплясать зазвали!.. За хозяйство совсемко не берутся. Лодыряки! Того и бедность. А детья полна гнила коробочка. Восемь душ! Во-о-осемь! Один одного короче. Мать без одной руки, батька доменялся – где-сь на стороне и примёр в голод с тифу. Что ж в той весёлой семейке горьку нуждоньку качати? Милая доча… Тебе Бог Никишу дал и в окно подал, а ты носяру воротишь. Как жа. Прочь, грязь, навоз идé! Эх, дитя, дитя, не ждать от тебя путя… Дофукаешься… Отдаю пока по чести, шла бы с Богом. А не то через год за кол в плетне отдам. В лишних девках ты у меня не разоспишься! Никитий… Вот тебе наши золотые горы!
Поля с плачем выбежала из комнатки.
А назавтра те же гости на тот же порожек. Извиняются за наскучливость, вчерашний хлеб на стол и за своё.
– Ваш товар нам люб, люб ли Вам наш? – пытает сват батьку Поли.
Выжидательно молчит родителец невесты.
Гости в напор. Допытываются, к какому бережку прибились.
– Да всё встаре, – отвечает Владимир Арсеньевич.
– Что так? – наступает Олена. – Отказывать как? Вы почти уже родня. И у невесты фамильность Долгова… И жених Долгов…Как нарошно… На Ваш хуторок выселялись и из нашей Новой Криуши… Набежали на однофамилика… На двох одна фамильность есть уже. А дело где?.. Невжель дочка нам отказ спекла? Спрашивали её?
– А! К ней на семи конях не подъедешь. А разберёшься, кого там спрашувать? Зэлэна, шо она смыслит! Глина щэ в голове, глядит из чужих рук. Да и шо вопросы наводить? Може, Ваш спроть. А разве одна ласточка весну поёт? А разве одна ласточка вьёт гнездо?
Старик сановито уходит за Никитой. Побаивается старик, как бы малый не плеснул аллилуйи с маслом, подучает по пути сына, как половчей, покруглей, без оплошки отвечать.
Белее белого пристыл Никита на пороге. В поклоне поздоровался.
Владимир Арсеньевич бросил на парня хваткие глаза.
– Они, – взгляд на сватов, – не дают мне, Никита Борисович, и дохнуть. А не зря? Можь, моя неумёха тебе и на дух не надобна?
– Тогда б чего я стоял перед Вами?
Одобрительно крякнул Владимир Арсеньевич. Подобрался, выпрямился за столом Борис Андреевич. Сынов ответ накинул ему смелости. Предложил он послушать теперь Полю.
Не подымая головы, за своим отцом вошла Поля.
– Дочушка, Пелагия Владимировна, согласна ль ты уйти за Никиту Борисовича? – спросил Владимир Арсеньевич.
– Я из батьковой, из материной воли не выхожу…
Невеста Борису Андреевичу понравилась. Ему захотелось, чтоб именно она была у него в невестках. Переведя с Поли взгляд на своего сына, старик подумал: «Временем и смерд барыню берёт», а вслух сказал:
– Чего, сваток, ватлать языками? Давай свадебку ладить. Владимир Арсеньевич встрепенулся, привскочил.
– Безо время за дело браться? Вы батька-матирь поспрошали? Я всё ума никак не дам… Вот как Лександра Павловна скажет, так то и свяжется.
Как-то со страхом, виновато-сосредоточенно выглядывала Сашоня из-за острого мужнина плеча, будто это её сватали, и потому, когда её назвали, она, окаменелая горушка, вдруг вся вздрогнула птицей, разом уже одутловатое лицо прошиб крутой румянец.
– Да я уроде того и не противница совсем окончательная и невозможная. А как оно раскинешь головою… Ну як ото отдавать на сторону? Дуже далэко у гости пишки ходить.
Никитин отец качнулся вальяжно, что тебе боярская душа:
– А зачем, Лександра Павловна, пеше? У нас кони есть! Коней будем Вам подавать… выезд… Тройку с бубенцами!
– Ну, коли будут кони, так мой соглас у Вас в кармане.
Ублаготворённый Владимир Арсеньевич наглаживает мизинцем кончик левого уса, усмехается молодым:
– Похоже, сизарики, повяжем мы вас…
– Мы этого только и ждём! – готовно выпалил Никита.
При свечах Полины старики благословляют молодых хлебом, а её подружки запевают песню-заплачку, песню-укор невесты своему отцу.
– Да отдаешь мене, мий таточку,Як сам бачишь.Да не раз, не два ты по мне,Ой, заплачешь.Ой, як на весне садочкиЗацветутДа мимо твого двора дружичкиПойдут,Да не будут до твоей хатыПривертаты,Да не будут кватирочку,[24]Ой, отсуваты,Да не будут Поленьку,Ой, выкликаты.Да даешь мене, мий таточку,Сам от себе,Да остаеться рута-мнята[25]Вся у тебе.Да вставай же, мий таточку,Да раненько,Да поливай рутку-мятуЧастенькоРанними и вечернимиЗироньками[26]И своими дрибненькимиСлизоньками.Надсадная песня так и тянет за душу, так и сосёт телком, и вот уже на мокром месте глаза и у невесты, и у стариков, и уже смотрит отец на Полю так, будто застали его на месте преступления против родного дитяти, смотрит выжидательно, обречённо, точно ждёт кары. Но за что? Дело связано… Правда, отцу сейчас кажется, не всё чисто тут наработано, хотя какую ж ещё подавай чистоту, сама ж привела на хвосте сизарика, а что свояченица подтолкнула дело – ну, какая телега покатится, пока не взопрёшь её на гору да не толканёшь вниз. Ну какая? Вопрос этот застыл у него в глазах, и набежавшая слеза горячо прикрыла его, прикрыла мир. У Поли в каждой косе было по тюльпану с кулак. Ещё минуту назад отец видел лишь один цветок. Красный круг его разрастался, ширился, ало заливал всю Полю, и теперь красно-размыто видится зыбко дочушка, расплывчаты певуньи, расплывчаты улыбки жениха – расплывчато, размыто, неясно всё. Однако он не отирал глаз, не стыдился слёз.
Видят такое певуньи, не переводя дыхания наваливаются на другую песню.
– Как вьюн над водой увивается,Никита у ворот убивается:– Выйди ко мне тесть-батюшка!Выйди ко мне теща-матушка!Вывели к нему ворона коня.– То не мое, мне не суженое,Мне не ряженое.Как вьюн над водой увивается,Никита у ворот убивается:– Выйди ко мне, тесть-батюшка!Выйди ко мне, теща-матушка!Вынесли теперь сундук золотой.– Это не мое, мне не суженое,Мне не ряженое.Греет, веселит Володьшу молодая радость. Знает, добрая песня эта величальная про счастье, которое даровал он сегодня и своей дочери, и этому парню, отныне и его сыну, глядя на которого думал сейчас, а пускай лицом неудаха, зато характером счастливый. Характер Володьша угадывал по манере того держаться, говорить, обращаться к людям – о, Володьша насквозь видел человека.
«Держись, – мысленно советовал Поле, – держись, доцю, за Никишика, як воша за кожух. За глаза будешь им довольна. За ним тоби будэ житьишко, як у Бога за дверьми».
– Как вьюн над водой увивается,Никита Борисыч у ворот убивается:– Выйди ко мне, тесть-батюшка!Выйди ко мне, теща-матушка!Вывели к нему Полюшку,Полюшку свет Владимировну.– Это мое, мое суженое,Мое ряженое!Негромкими, раздумчивыми голосами подружки заводят про то, как Полюшка приезжает в первый день к резвому свёкорку и решительно не знает, как повести себя.
– Ой, як мени в чужий хати привыкаты?Ой, як мени до столика, ой, доступаты?И як мени свекорка называты?Да назову я свекорком, ой, неприлишно,Назову я батичком, ой, дужэ пышно.Вслед за песней Сашоня протягивает дочке тарелку с платочком. Рдея, Поля передаёт всё это Никите. Тот кланяется Поле, отирает её этим платочком стыдливо и как-то украдкой, резко приблизившись холодными белыми губами к её полным алым, прикасается коротко, точно в испуге. Хотя у собачанских кавалерок поцелуй не такая уж редкая реликвия, но у Поли это был первый поцелуй, как впрочем, и у Никиты.
Под вопросительно-смешливыми взорами Никита подошёл к тестю. Важевато, с поклоном Владимир Арсеньевич сронил четвертной в тарелку на поклад.[27] Но в новую минуту, когда тарелка докружилась до Бориса Андреевича, тот совсем небрежно накрыл Владимирову бумажку, будто то был убогий щербатый грошик, своей половинной сотней.
– Чтоб колёса свадебные не скрыпели, – пояснил вкрадчиво.
Приразинул Володьша рот. Пять десятков рубляков! Вот так замах! Таковских мильонов ни один бешеный не отваливал на поклад. Три коровы выкинул из кармана и не поморщился!
– Торг любит потешку, – заискивающе, приторно пропел на все стороны Владимир Арсеньевич. – Ой як и лю-юбит, дорогый Бори-ис наш Андреевич! Доброму товару добрая и цена!
Володьша столкнулся с Полей глаза в глаза, повинно подумал: