На панщинi пшеницю жала,
Втомилася, не спочивать
Пiшла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитее кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила i нiби сном,
Над сином сидя, задрiмала.
І сниться iй той син Іван,
І уродливий, i багатий,
Не одинокий, а жонатий,
На вольнiй, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волi;
Та на своiм веселiм полi
Свою-таки пшеницю жнуть,
А дiточки обiд несуть
Та йдучи колоски збирають,
Як тая доленька чужая…
І усмiхнулася небога.
Прокинулась; нема нiчого,
На сина глянула, взяла
Його тихенько сповила,
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пiшла.
Не здивуйте, який удався. Не забудьте ж, моя голубко сизая, моеi великоi просьби i мене, искреннего вашого
Т. Шевченка.
С.-Петербург.
22 ноября
1858 года.
309. П. О. Кулiша до Т. Г. Шевченка
Близько 22 листопада 1858. С.-Петербург
Дивуюсь я, читаючи Ваш лист, та й не надивуюсь: чого б то менi плисти з своiми вiршами по сушi пiд парусом! Хiба я Олег, нехай Бог крие, або що? Парус у своему унiверсалi перелiчив усi народностi, тiльки забув про нашу, бо ми, бач, дуже одинаковi, близькii родичi: як наш батько горiв, так iх грiвся!
Не годиться менi давать своi вiршi пiд парус І того ради, що його надувае чоловiк, которий вступивсь за князя, любителя хлости. Може, воно й до ладу по московськiй натурi, тiлько ми сього не вподобали для свого люду, а вже коли в Москвi даватимуть хлосту, то даватимуть i на Вкраiнi. От що!
Іще блаженноi пам’ятi цар Микола постановив у вiйськових артикулах, щоб москалiв з украiнцiв бiльш карати соромом i картати словами або розумно вмовляти, анiж сiкти рiзками. І той знав, що наш народ вийшов уже з того зросту, що iсти березову кашу, а хазяiн «Паруса», маючи нашу народнiсть нiзащо, думае, що для Хахлов усякий закон гряде!
Оттак-то! Не здивуйте, добродiю, що не вволив я Вашоi волi, ба дiло се не мале; самi маете розум.
Як будете писати, то поклонiтесь од мене Вашому любому подружжю.
А се вже до Вас:
Учора я сказав Вам дещо про стихи, да й злякавсь, щоб Ви не прийняли того за вхибу своему достоiнству поетичньому. Коли б хто iнший написав Ваше слово до ляхiв, то, може, високо я поставив би його – так, як Ви «Казаночок». Но Ви самi собi поставили таку високу мiру в печатаних i ненапечатаних Ваших вiршах, що й найплохший критик зумiе вказати, що нижче ii, тоi мiри. Може, я помиляюсь, як дитина, судячи про Вашi вiршi, да лучче ж Вам знать, що дiтська моя думка од Вас не замкнута, нiж не знать, що справдi в чоловiка на думцi! У нашому малому товариствi повинна царствовати щира воля суда. Не всюди я те скажу про Марка Вовчка або про Вас, розбираючи Вашi писання, що скажу в своiй громадi, i з того щирого суду, менi здаеться, повинна вийти для нашоi молодоi словесностi велика користь.
310. Марка Вовчка, М. І. Костомарова, П. О. Кулiша, М. Номиса i Т. Г. Шевченка до редакцii журналу «Русский вестник»
Листопад 1858. С.-Петербург
В № 21 вашего журнала вы представили первый пример общественного протеста русских литераторов против недостойного поступка «Иллюстрации». Много веков уже христианские нации, составляющие ныне Русскую империю, клеймят скитающееся по всему миру племя евреев именами злодеев, предателей, обманщиков, врагов Божиих и человеческих. И не на словах только высказывалось против евреев негодование обществ и правительств, которые не умели увлечь их человеческими средствами на путь истины и добра. Их изгоняли, топили, жгли и резали, как хищных зверей. Было бы неестественно этим жертвам слепого озлобления фанатиков оставить обычаи, за которые их ненавидели, и усвоить себе характер своих гонителей. Не говорю уже о самом вероисповедании, которое чем ожесточеннее было поносимо христианами, тем казалось выше и святее в глазах евреев, тем теснее связывало их в один корпоративный союз, во имя не до конца прогневанного ими Еговы. Таким образом христиане, ревнуя по вере и от всего сердца желая обратить на путь истины скитающихся по свету потомков Израиля, этим самым отдаляли их от пути истины и делали глухими к евангельскому слову. Евреи видели и должны были видеть своих врагов в проповедниках человеколюбивого учения, прибегавших к брани, угрозам, гонениям и убийствам. Евреи сделались и должны были сделаться заклятыми врагами иноверцев, возвергающих хулы на их веру, на их учителей, на их храмы-школы и на священные для них обычаи. Евреи, стесняемые повсеместно даже самими законами, поневоле обратились к хитростям и плутовству, поневоле освятили вероучением своим всякий вред, который они могут сделать безнаказанно христианину. Евреи дошли до изуверства в ненависти своей к христианам. Как ни возмутительно для нас многое из того, что мы знаем о евреях по достоверным, письменным и печатным, свидетельствам, но это должно служить для нас только мерою зол, которым так долго и так повсеместно подвергалось несчастное потомство Израиля. С другой стороны, современный практический разум доказывает нам очень убедительно, что ни к чему доброму не привела евреев всеобщая вражда к ним христианских народов и что одно свободное просвещение да равенство гражданских прав способны очистить еврейскую национальность от всего, что в ней есть неприязненного к иноверцам. Русские литераторы, стоящие во главе нового русского движения к человечности, глубоко сознали эту истину. Журнал ваш, м[илостивый] г[осударь], первый сделался органом просвещенных представителей еврейского племени, во имя независимости всякой сознающей себя народности, и первый представил торжественную манифестацию русских и польских писателей против «Иллюстрации», которая, нося европейское имя, дышит временем Иоанна IV Грозного в своих суждениях о евреях. В сорока осьми именах, подписавших протест, напечатанный в 21 № «Русского вестника», я уверен, есть и имена малороссиян, которые вообще никогда не оставались позади представителей Великороссии во всяком истинно человеческом движении. Но между этими именами я не вижу ни одного, с которым связана идея собственно малороссийской, украинской или южнорусской народности, проявившаяся в последнее время в литературных произведениях разного рода. Много или мало известно покамест таких имен, но голоса их имеют в этом деле особенно важное значение, выражая мнение о еврейском вопросе того народа, который больше великороссиян и поляков терпел от евреев и выразил свою ненависть к евреям, во времена оны, многими тысячами кровавых жертв. Этот народ не мог входить в причину зла, заключавшуюся не в евреях, а в религиозно-гражданском устройстве Польши. Он мстил евреям с таким простодушным сознанием праведности кровопролитий, что даже воспел свои страшные подвиги в своих истинно поэтических песнях. И несмотря на то, современные литературные представители этого народа, дыша иным духом, сочувствуя иным стремлениям, прикладывают свои руки к протесту «Русского вестника» против статей «Иллюстрации».
Марко Вовчок, Н. Костомаров, П. Кулиш, М. Номис, Т. Шевченко.
311. М. С. Щепкiна до Т. Г. Шевченка
Кiнець листопада 1858. Москва
Милостивый государь Тарас Григорьевич!
По письму твоему был несколько раз у В. А. Кокорева, но не заставал дома, наконец, застал, но у него было так много всякого люду, что мне неловко было говорить ему, а я передал все правителю дел его и просил, чтобы он напомнил ему. А прощаясь с Кокоревым, я сказал, что у меня была к нему просьба и что я все это передал его управляющему. Прошло несколько дней, я все ожидал какого-нибудь известия и, наконец, узнаю, что он уехал в Питер и что он сделал по моей просьбе – не знаю, потому что и управляющего здесь нет. Очень жаль, что не мог выполнить успешно твоего поручения. Я бы своих тебе послал, но я теперь сам без денег и потому изворотись как-нибудь: в первых числах февраля мой бенефис, и я могу тогда свои деньги отдать, а с него я получу после. В настоящее время мои домашние дела нехороши. Жена моя все нездорова, сам я болен морально, потому что подал в отставку: все это меня, старика, волнует. Хотя я и получил от директора письмо, исполненное деликатных фраз и надежды остаться при театре, но это все разрешится при его приезде. А до того я все в страдательном положении. Прощай, обнимаю тебя од души, твой старый друг
Михайло Щепкин.
Передай мой душевный поклон их сиятельствам. Моя семья все тебе кланяются.
312. М. О. Максимовича до Т. Г. Шевченка
1 грудня 1858. Москва
1 декабря 1858 г. Москва.
Спасибi тобi, мiй любий i дорогий земляченьку, за твоi прегарнii листи до мене i до моеi Марусi, котрая, може, сьогоднi там, поглядаючи на Днiпро-Славуту i читаючи твiй дивнесенький «Сон», дякуе тобi за його. Скучно менi дуже тут без неi, i я вже виспiвую собi:
Лучче було б не рiзниться,
Коли дав Бог подружиться…
От на такi-то часи, може, й лучче жити собi единому, хоча на все життя наше i недобре бути чоловiку единому, по слову Господню. А що, якби й справдi Бог помiг нам одружити тебе, бурлаку, на Михайловiй Горi!.. То-то б удрали весiлля – таке, що аж синi гори Днiпровii здвигнулись би на радощах; розпочав би я тодi з тобою i ту пляшечку вистоялки, що налита ще 1808 року, як мiй дядько, блаженноi пам’ятi Ілiя Хведорович Тимковський, оженився на Софii Іванiвнi Халанськiй у Турановцi, на р. Шостцi.
А що ти тепер менi написав, то, здаеться, i дивуватися нiчого, що я передав тобi просьбу Аксакова Івана об твоiх вiр- шах задля його «Паруса»: дурний би лоцман був, коли б не забажав i не запрохав такого пловця, як ти, споряжаючи собi нового дуба чи паруса! А що вiн недогадлив був, задумавши упоруч себе посадити i нас всiх, тодi як треба було спорядити особиту лаву, то не зовсiм гарно, да ще ж i не так погано, щоб уже i зовсiм цуратися доброго чоловiка. Недоладня дуже була i його оборона того вельможного, що збрехнув погане слiвце про березову кашу – i то правда! Менi, так же як i тобi, прийшлось воно дуже не по нутру; а коли б ти бачив, як розходивсь був тут старий Михайло наш – i Господи як!.. Да знаеш що: те вельможне княжа само зроду нiкому не дало i одноi ложки березовоi кашi i, мабуть, не бачило зроду, як i годують ею, хоч i наварило такого кулешу, що, як кажуть у нас, – крупина за крупиною ганяеться з дубиною… Бачить, сердечний, що накоiв тривоги, да вже й каеться тепер на ввесь свiт i цураеться од тоi несмачноi страви, да ще й дякуе добрим i всiм людям, що так проплювали на його мисочку… Поглянь же незлим своiм оком на тую добру людину i посмiйся тiй кумедii, як баранча мiж вовками i само було здумало завити по-вовчому, а далi схаменулось, що неподоба. Така поворотка на добру стать стоiть того, щоб пересердiе змiнити на милосердiе. Із ким на вiку не траплялось помилиться то в словi, то в дiлi. От хоть би i наш гарячий… Ну, да Господь i з ним, i з тим вельможним, i з лоцманом: щасти iм, Боже, на все добре, бо всi вони хочуть добра, i рвуться на добре, кожний по-своему його розумiючи!..
Скажи, лишень, менi, брате милий, про себе, про твоi думки i пiснi: чи вже ж таки справдi не дозволяють iх видавати i друковати?.. Чув я, що якийсь паливода навiжений там за гряницею тобi пiдпакостив… Ну, да твоя ж збiрка вийшла би iз-пiд тутешньоi цензури. Нехай би хоть сам ясновельможний шеф жандармiв процензурував iз своiми многоочитими архiянголами… Не все ж у тебе таке, що не можна пропускати; половина бiльша такого, що i ваш гасило Мацкевич, i московський Безсомикiн пiдпишуть: «Печатать позволяеться!». Ну, з таких невинних баранчат i нехай буде твоя збiрка тепер; а що таке е в тебе, що скаче, як кiзки, те нехай з Богом вилежуеться собi, як льон добрий! – Ой як рада б була вся Украiна, да й Московщина, побачити твою ватагу; я б i в епiграф поставив над нею вiвчарську пiсню:
Тереш, тереш, овечечки,
Тереш, баранчата!
За сим прощай, мiй голубе сизий! Сердечне обнiмаю тебе!
Твiй Максимович.
Озовись до мене хоч iнколи! Був я недiлi з двi нездоров.



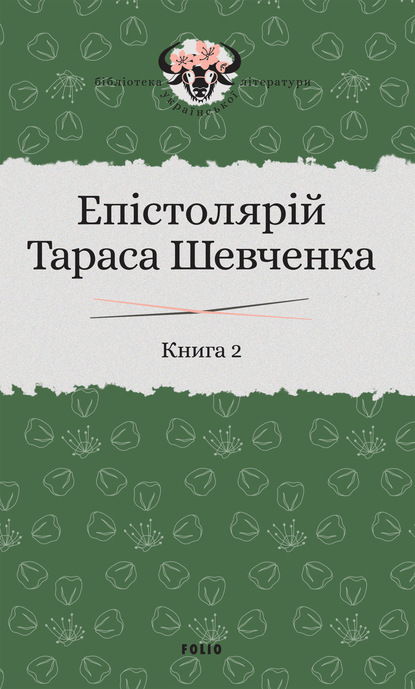




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0