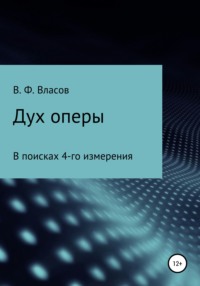
Дух оперы
– Всё зависит от человеческого сознания, – подумав, сказал Луиджи, – я понимаю, что человек одновременно может быть мягким и твёрдым: мягким к брату, сестре и ближнему; твёрдым к врагу, обманщику и негодяю; таким является любой человек в мире, независимо от национальности, в сердце которого одновременно уживаются любовь и ненависть. Но вот только, идя механически путём прогресса, сможет ли он стать совершенным? Да и будет ли это совершенство, когда человек станет винтиком прогресса, так сказать, человеком коллективного сознания? Ведь самое главное для человека на пути к так называемому вами совершенству – это контроль над своим сознанием.
– Но что такое сознание? И как вы его понимаете? – сразу же возразил я ему. – Ведь с этим нужно ещё разобраться. Я допускаю, что ваше знание связанно с тем, что происходит внутри вас, а не снаружи. Не так ли?
Луиджи кивнул головой и сказал:
– Мы с вами уже говорили о том, что у человека в этом мире возникает как бы три действительности в зависимости от состояния его сознания. То, что в нём происходит внутри, часто случается в то время, когда он среди многих людей как бы остаётся в одиночестве, как «человек на площади», когда что-то вокруг него происходит, кто-то проходит мимо, а он никого не замечает, потому что его взгляд направлен внутрь себя. Но в то же время он может себя чувствовать и как «человек в театре» ведь в одиночестве он не всегда может оставаться, будучи окружённый людьми. В этот момент включается другая действительность. Он уже является зрителем и участником всеобщего спектакля. Его сознание делает его из мыслителя артистом. Но общаясь с людьми и наблюдая за своим окружением, он уже попадает в третью действительность, как бы давая оценку всему тому, что происходит вокруг него, и задумывается над тем, а ради чего всё это происходит; какую роль он играет во всём этом; и какова цель его жизни. И эта третья действительность его характеризует уже как «человека в храме». Не та ли? Но почему это происходит?
Я не знал, что ему ответить, и Луиджи продолжал говорить:
– Конечно же, вы внимательно вслушиваетесь в звуки, исходящие от мира как снаружи, так и внутри себя, думая, что именно внутри себя можно услышать звуки, исходящие из глубин Вселенной. К тому же вы считаете, что необходимо обладать внутренним и внешним зрением, полагая, что на то, что происходит в мире, вы можем смотреть и через внутреннее зрение и видеть истинную картину происходящего.
– А разве это не так? – спросил я его.
– Так-то оно так, – ответил Луиджи, – но если полагаться только на это, то можно впасть в заблуждение и совсем не понимать причин того, почему это происходит. Например, до меня часто доходят некоторые отрывки мелодий, несущие с собой как бы с неба определённые мысли. Я слышу мелодию древних греков: «Гибель они навлекли на себя святотатством, безумцы…». Что это? Не подсказка ли это того, что должно произойти с теми, кто, теряя мудрость, начинает творить безумия. А безумием иногда бывает даже доброта. Ведь недаром говорят, что навязчивая доброта бывает хуже зла. Человек часто впадает в лёгкое безумие, и не понимает, что творит. Поэтому человек, находясь одновременно в трёх видах этой действительности, должен быть всегда прозорливым. Истинная прозорливость – это постоянное прозрение. А прозрение – это как рождение из небытия, как возвращения из забытья, как просыпание после долгого сна, одним словом, это – мгновенный переход из одной действительности в другую, молниеносное пронизывание одновременно трех действительностей тремя своими осознаниями.
Услышав эти слова, я рассмеялся и сказал:
– Что касается меня, то я постоянно нахожусь в каком-то опьянении жизнью.
И тут я вспомнил, что, сказав эти слова, я вдруг как бы почувствовал, что в тот момент почти полностью протрезвел. Хмель как будто выветрилась из моей головы.
Я вспомнил, что в тот момент, когда мы ехали с Луиджи в наше общежитие, будучи пьяными, я вдруг осознал, что окончательно вышел из прежнего изменённого сознания, в котором остались и прогулка по вечернему Риму, и моё пребывание в позапрошлом веке в обличии гусара в занесённом снегом гостином дворе, и разговор с учёным, трансформировавшимся в Луиджи. Я ясно увидел горящие огни моего родного города, проезжая по мосту, услышал звон трамваев на рельсах и чувствовал запах одеколона водителя, который управлял такси. По-видимому, моё сознание в то время пробудилось.
– Странно, – продолжал говорить я после того, – но это опьянение жизнью мне часто нравится. Ведь нельзя жить постоянно только своим разумом. Это скучно! К тому же, жить одним разумом безрадостно, получается, как бы, странная схема такого существования: мрак, безызвестность, луч света, мысль, полёт фантазии, шишка на лбу от удара о фонарный столб и снова мрак до следующего озарения. Я думаю, что невозможно сразу отдаваться одновременно трём реальностям, а необходимо их переживать по-отдельности и наслаждаться ими. Иначе, что это за жизнь?! Конечно же, можно отдаваться полётам фантазии, парить над головами многих, ни на кого не обращая внимания, но взлететь в небо и парить над всеми – не безопасно ни для себя, ни для других, потому что можно потом упасть на их головы. Ведь можно же, конечно, жить только своей внутренней жизнью, как бы обосабливаясь от других, что я чаще всего и делаю, и не задумываться, правильно ли это или нет. И самое разумное, что может делать человек, – это ни с кем не спорить. В мире – сколько людей, столько и мнений. Если ни с кем не споришь, то над тобой никто не посмеётся, в душе же можешь смеяться над всеми.
Слушая меня, Луиджи опять рассмеялся, воскликнув тираду Гомера из «Илиады» или какого-то другого его произведения, которое я когда-то уже читал:
– Странное, дочь моя, слово из уст у тебя излетело.
– А что? – сказал я. – Разве я не прав?! Человек способен разобраться только в своём собственном внутреннем мире, да и то иногда ему бывает трудно это сделать. А что касается внешнего мира и, уж тем более, общества, где он вынужден жить, и где никогда не бывает порядка, то это для него всегда затруднительно, потому что в обществе постоянно отсутствует истина и правда. Ведь когда люди лгут друг другу, они порождают новую правду, особенно когда они эту правду превращают в разновидность панибратства. Кто-то из великих сказал, что, фамильярничая, люди становятся братьями. Очень трудно разорвать такие брачные узы, ещё труднее бывает порвать отношения с фамильярным сообществом, которым является любое государство через своё так называемое воспитание «патриотизма». Когда вокруг очень много людей, то трудно жить с ними, оставаясь самим собой. Ведь среди людей есть масса неприязненного народа, и трудно, а может быть, даже и нельзя навязать свою любовь тому, кто тебя ненавидит. Можно, конечно, быть выше всего этого, научиться оправдывать любые проявления вражды и нетерпимости, считая, что лжи и обмана не существует на свете, а есть, всего лишь, иллюзии и самовнушение, которые навязываются другим. Но лучше всего, как я считаю, держатся от всех на расстоянии, и жить самому по себе, занимать, так сказать, нейтральную позицию. Нейтральная позиция – это когда ты не являешься ни учеником, ни учителем. Я считаю, что каждый человек сам по себе гениален, правда, иногда он этого не знает, и поэтому обычно смотрит в рот другим. Ведь не даром же говорят, что миром правят посредственности, культуру создают одарённые, а в изгоях пребывают гении. Гении идут своим путём, создавая для всех прописные истины, по которым одарённые пытаются ткать канву жизни, которую посредственности потом используют для своих нужд. Когда вы говорили о пробуждении своего сознания, то я эти слова связал с пробуждением в себе гения. И я считаю, что гений – это человек, который живёт своими мыслями. Не нужно прислушиваться к чужим мнениям, нужно иметь своё собственное мнение, потому что у гениев всегда много подражателей, но ещё больше дегенеративных выкидышей. Человек часто задаётся мыслью: прав он или нет, и не может понять, чья истина в нём: его собственная или у кого-то заимствованная? Но это легко проверить: действуешь ты по своим собственным убеждением или с оглядкой на других. Ведь так? Если ты считаешь себя умнее других, то не поступай, как все. Но если ты мудрее других, то делай так, чтобы все поступали, как ты. Человек стремится к Истине, но для того, чтобы ею овладеть, ему нужно стать совершенным.
– Истины не существует в вашем мире, – спокойно заявил мне Луиджи, посматривая в окно машины на пробегающие столбы, киоски и дома улицы.
– Как это? – возмутился я, не в силах поверить в то, что услышал из его уст.
– Потому что истину вы создаёте сами. Когда я превратился в человека, то начал задумываться над человеческой психикой, чтобы понимать вас, вернее, то, как вы смотрите на мир. И вот что я открыл: вся ваша психика и так называемый духовный строй, как и душевный уют, состоят из набора парадоксальных и болезненных заморочек, которые вы превратили в своего рода категории, такие, как истина и ложь, правда и заблуждение, себялюбие и самопожертвование, грех и вина, любовь и ненависть, и, наконец, свобода, равенство и братство. Но эти заморочки не приносят человеку никакой радости и не делают его счастливым. Возьмём, к примеру, истину, к которой вы стремитесь, полагая, что она помогает вам раскрывать некую тайну, которая сокрыта от вашего сознания, и которая сделает вас умнее и совершеннее. Но как же разглядеть или понять эту истину? И обязательно ли при рассмотрении истины брать во внимание общественное мнение? И вообще, что же такое истина? Рождается ли она от конструирования ваших мыслей или ещё от чего-то? Ведь ваши мысли, если они даже вами выстраданы, не имеют никакой ценности, потому что они, как правило, со временем мимикрируют. К тому же человеку, априори, трудно понять, что истинно, и что ложно, поэтому человеческой истины нет, и не может быть. Я не говорю о Боге, так как божественная истина музыкальна. Музыка, подобно свету, льется из самой сущности Творца. Более того, это и есть его доступный язык при общении с живыми существами, как самое совершенное порождение высшей мудрости, наполняющей всех счастьем. А правда и истина у человека всегда перемешиваются с ложью заблуждениями, от этого и происходят все его беды. И правда у него отличается от лжи тем же, чем смелость отличается от трусости, но бывают исключения, когда ложь есть проявление особой храбрости. Иногда к этому исключению вынуждены прибегать ваши мудрые политики, тогда ложь, в которую вы верите, стаёт у вас правдой. И это всё зависит от степени вашей веры в неё. Очень часто человек произвольно или непроизвольно утаивает правду, уж такова сущность человека, который никогда не обходится без тайн. Меня всегда интересовал вопрос: «Почему человек не может обходиться без тайн? И почему он боится, что его тайны могут быть раскрыты»? Не потому ли, что, раскрывая свою тайну, человек становится уязвимым. Но вот только носить в себе эту тайну порой человеку становится трудно, потому что он открытое и общественное существо. Нося в себе какую-нибудь тайну, он даже может заболеть от этого. Наверное, поэтому священники, чтобы снять с человека какую-то тайну, лежащую на его сердце грузом, придумали так называемую тайну исповеди. В этом, наверное, есть какой-то смысл. Расставаясь с тайной, люди обретают душевное спокойствие. Ведь недаром говорят, что, когда кому-то удаётся открыть вашу тайну, которая вас долго мучила, и о которой вы предпочли никогда не упоминать, вы от неё освобождаетесь, перестаёте мучиться и болеть. Ведь с больной мозолью вы расстаётесь без сожаления? Неприятная для вас тайна – та же болезненная мозоль, от которой вы освобождаетесь, сделав её достоянием гласности. Страдания у вас лечатся покаянием, так как человеческая совесть не может обойтись без давления на неё груза вины. Человек, почему-то, всегда винит себя во всём. Без ощущения вины он просто не видит своего существования. Хотя, что такое вина? Это – такая же глупость, как и все прочие человеческие привычки и пережитки. Но всё же, провинившиеся исправляются быстрее, когда им постоянно не напоминают об их вине. Впрочем, человек весь состоит из своих глупостей. И почему-то глупостям умных людей верят чаще, нежели глупостям глупых. Может быть, первые находятся под защитой своего авторитета? Из глупостей слагаются человеческие достоверности. А о достоверности у каждого человека существует своё собственное мнение. Все люди тщеславны. Это – ещё один порок человеческого характера. Многие смеются в душе над тщеславием своего друга, и лишь немногие радуются, когда это тщеславие реализуется. К тому же люди завистливы и эгоистичны. Даже в вашей любви к кому-либо проявляется ваш эгоизм. Как-то я слышал такое суждение: «Мы любим нашу возлюбленную за нашу любовь к ней, а не за то, любит она нас или нет. Когда наша любовь к ней остывает, то её любовь к нам начинает нас раздражать». У человеческого себялюбия нет границ, поэтому, вероятно, человек так жаждет славы, которая на поверку является для него всего-то миражом. Я слышал и такое суждение от кого-то из вас: «Чаще всего нам полезна слава мнимая, обладая её чувством, мы не устаём трудиться во имя этой славы, но, когда эта слава приходит к нам по-настоящему, мы забрасываем свой труд, и нежимся в лучах её сияния». Став человеком, я долгое время общался с людьми и понял, почему вы все такие несчастные. Один мой друг как-то признался мне, сказав следующее: «В душе мы ненавидим всех людей, стоящих выше нас, если считаем их по достоинству равными себе. Это происходит, вероятно, оттого, что природа заложила в вас инстинкт вашего превосходства через равенство, по которому все слабые стремятся стать равными сильным, а сильные стремятся подмять под себя слабых». Из этого следует, что в вашем обществе никогда не будет достигнуто равенство. Я уже не говорю там о каком-то братстве, потому что в вашем мире также не может существовать истинного Братства, ибо вы даже с вашим человеколюбием ко всему человечеству неспособны стать братом человеку, который вам антипатичен. А в силу зависимости от всего в этом мире, вы не можете быть свободными. Поэтому истинной свободы в вашем мире тоже не существует. Так что, этот ваш лозунг «Свобода, равенство, братство», который вы выдумали, для того, чтобы сплотиться, является простой фикцией.
– Но всё же, – прервал я рассуждения Луиджи, попробовав возразить ему, – вы же не будете отрицать того, что все люди стремятся к добру.
Услышав эти слова, Луиджи расхохотался и сказал:
– Всё это – пустые слова. Обычно люди говорят о том, чего не знают, что хотят скрыть, или о чём никогда по-настоящему не задумывались. Вероятно, поэтому, слова, произносимые человеком, ветер всегда уносит в пустоту. У вас почему-то, когда говорят о добром, всегда это выглядит пресно, приторно или скучно, а вот когда речь заходит о злом, ваше внимание всегда обостряется. Отчего так происходит?
Я ему тут же возразил:
– Бывает и так, что люди, стремящиеся показать себя злыми, бывают очень добрыми, и наоборот, которые выставляют себя на показ добряками, оказываются в конечном итоге злодеями.
– Вот-вот, – тут же поддержал меня Луиджи, – это говорит о том, что вся ваша мораль лицемерна. Конечно, злодея или лгуна можно легко обнаружить среди вас, потому что мало кому из вас удаётся скрывать свои чувства. У лгуна самое уязвимое место – его глаза. А злодей всегда выдаёт себя своим дыханием. А что касается вашей общественной морали, то она не только полна противоречий, но и наполнена крайностями, которые её доводит до ханжества. Так, например, когда общественная мораль осуждает прелюбодеяние, не стремится ли она этим прикончить само понятие любви?
Я не знал, что ему ответить, и только развёл руками, но тут же, взяв себя в руки воскликнул:
– И всё же, мы стремимся сталь лучше. Каждый из нас желает быть совершенным. И у каждого человека на земле есть путеводная звезда. Иногда найти её не составляет труда, но иногда на её поиски уходит вся жизнь.
– Для того, чтобы стать лучше, чаще слушайте классическую музыку и посещайте оперу.
– Но в нашем городе нет оперного театра, – озабоченно произнёс я.
– Если нет оперного театра, его нужно создать, – сказал Луиджи.
В это время мы подъехали к нашему общежитию, и наш разговор пришлось прервать. Поднимаясь по лестнице в наши комнаты, мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.
И вот прошла уже ночь, настало утро, но почему этот важный кусок времени, где прозвучали такие значимые слова нашего разговора, выпал абсолютно из моей памяти? Может быть, потому, что он был мне неприятен? Многие неприятные вещи мы стремимся забыть мгновенно. Но потом они внезапно возникают в нашей памяти. Луиджи высказал мне тогда много чего такого, чего бы я не хотел слышать. И, вероятно, я всё это тут же и похоронил в своей памяти. Так уж устроена сущность человека, что она старается жить только теми воспоминаниями и помнить только то, что ей приятно.
Трамвай остановился недалеко от центральной площади, где располагалось здание правительства на месте разрушенного собора иконы казанской Богородицы. Посреди площади был разбит сквер с фонтаном, который был занесён снегом, как и сам сквер, и вся площадь.
Прохожих ещё почти не было видно, и я пошёл к фонтану, находящемуся в центе сквера, оставляя следы на выпавшем снегу. Хоть и горел свет фонарей, но звёзды ярко светились в предрассветной темноте неба. Площадь на востоке соединялась с широкой улицей, где справа был ещё один фонтан поменьше у геронтологического центра, напротив музея искусств, затем улица немного искривлялась и проходила мимо другого сквера, где находился большой фонтан между дворцом спорта и музыкальным театром, и упиралась в квартал старинных домов, увенчанных златоглавой церковью. Но даже при электрическом освещение всё это пространство невозможно было спутать с площадью Навона в Риме.
Как же так? – подумал я. – Почему иногда наша действительность раздаивается, и мы из одной реальности попадаем в другую. Вчера я, неожиданно для себя, из своего города переместился в Рим на площадь Навона, и Луиджи этому свидетель. Затем попал в какое-то неизвестное место, став гусаром, но потом опять вернулся в свой город. Что же это за такое, как не путешествие в пространстве и времени?! Конечно же, вчера я немного перебрал, но всё равно я контролировал своё сознание, я высказывал какие-то умные мысли, даже вёл диспут, но как это всё могло произойти, мне было не понятно. О реальности что-то там говорил Кант в своём «Освещении принципов метафизического познания».
Я попытался вспомнить его слова.
Да, так и есть, – воскликнул я, – он говорил, что реальность должна быть объединена в одном-единственном существе. Таким существом являюсь я. И в моём существе объединены все реальности, составляющие как бы материал для всех возможных понятий, и они распределяются между многими существующими вещами, где каждая вещь обладает существованием, в известном смысле ограниченным, то есть, связанным с некоторыми изъятиями.
Так оно и есть. Когда я находился в одной реальности, то другая реальность как бы изымалась, переставала для меня существовать. Я же не мог одновременно находиться и в моём городе, и в Риме. Кант прав, что этим изъятиям присуща безусловная необходимость, но не в такой степени как реальностям, хотя они и принадлежат к всесторонней определённости вещи, без которой вещь не может существовать, и отсюда следует, по его предположению, что ограниченные таким образом реальности имею случайное существование, как в моём случае. Таким образом, для безусловной необходимости требуется, чтобы реальности существовали без всяких ограничений, то есть представляли бы собой бесконечное существо, каким являюсь я. Может быть, под этим пониманием Кант подразумевал Бога? Но кто такой Бог? Может быть, он подразумевал сознание каждого человека, к примеру, моё сознание? Именно в нашем сознании и живёт Бог, и мы являемся его частицей. Так значит, и я могу сравниться с Богом. Ведь кто я? Я тоже являюсь существом, обладающим множественностью. Вчера я был и самим собой и гусаром. А если моё сознание божественно, то оно включает в себя всю Вселенную. А раз так, то я могу мгновенно переноситься из одного места в другое. Хоть я в своём роде и единственен, и существую как моё «я», но явлюсь безусловно необходимым началом всякой возможности.
Я окинул взглядом ещё раз площадь и уходящую вдаль широкую улицу и опять подумал о вчерашней метаморфозе: «Нет, это место не похоже на площадь Навона, хотя и имеет три фонтана, да и по географическому расположению наш город больше подходит к Парижу, чем к Риму, во всяком случае, находится на той же широте, что и Париж. Значит, вчера я и в самом деле побывал в Риме.
И тут у меня вдруг в голове зазвучала музыка Жана Батиста Люлли «Королевский дивертисмент». Но почему в моих ушах звучит эта музыка барокко? И тут я всё понял, что барокко – именно тот стиль, который подходит для публичных мест, где человек должен выделиться, чтобы не смешаться с серой массой, раскрыть все свои таланты и духовные богатства, обособиться от всех. Барокко – это не марши, когда все идут в одну ногу, а танцы, когда люди танцуют на площадях в своих маскарадных костюмах. Барокко – это же музыка для представлений на площадях, когда король Людовик Четырнадцатый выходил вместе с Люлли к своему народу. И король и композитор-артист дают представление, яркое и радостное, где король забывает о том, что он король, а артист может вообразить себя королём. И я вдруг тоже почувствовал себя «человеком на площади». Я шёл таким же скачкообразным шагом, как это делают танцоры, высоко подняв голову, представляя себя одновременно и Жаном Батистом Лилли и Людовиком Четырнадцатым и всем народом, который вышел на площадь, объединённым этим торжественным птичьем танцем. Я был одним из тысячи воображаемых мной людей на площади, и каждый из них старался показать всем свою индивидуальность, свою вычурность.
Я подумал, что этим и отличается барокко от всех других стилей в искусстве, он вбирает в себя всё и перемешивает, чтобы создать свою неповторимость. Какой прекрасный стиль! Это, прежде всего, особый вид душевного состояния, когда человек отделяется от всех, как бы ступая по площади, чтобы придать своей душе определённый импульс, раскрыться, как морская раковина причудливой формы, и показать свою драгоценную жемчужину, глубоко запрятанную в его душе, чтобы всех поразить своей ослепительностью и вычурностью, сложностью, пышностью и динамикой. Вот какой я, смотрите, великолепный и неповторимый! И музыка звучала в моих ушах, и я шёл по площади, подпрыгивая в воображаемом танцевальном шествии королевского дивертисмента.
Да, я – король, и это – моё королевство, такое же, как у Моцарта, где я играю всякие всевозможные роли. Ведь я – существо бесконечное, потенциально скрывающее в себе начало всяких возможностей, как говорил Кант, и моя реальность простирается за гранями любых ограничений, потому что мои духовные силы находятся в постоянном и непрерывном движении к всё большему совершенству, ведь я в своей душе обладаю бесконечностью всей Вселенной, которая содержит в себе все присущие ей мысли и реальности, озаряемые светом моей души. Никакая вещь не может поразить моё воображение, так как я, как математик, могу познать всё, а, как физик, создать любую реальность. Ибо я – король-солнце, как Людовик Четырнадцатый, создавший вокруг себя великолепный двор. Я могу до бесконечности расширять сферу моей реальности, благодаря связи с моей собственной Вселенной. Ведь все реальности – это всего лишь явления, феномены, возникающие и распадающиеся. Я постоянно совершенствую эту реальность, потому что сам, благодаря ей, совершенствуюсь.
И тут я, чувствующий себя «человеком на площади», огляделся вокруг. Рядом никого не было, и я ощутил, что ко мне пришла, наконец-то, эта долгожданная свобода, когда можно побыть одному, оставаясь наедине с самим собой, но не замыкаться в каком-то пространстве, а отдаться открытому космосу, быть под звёздами, мыслить о чём-то своём, внутреннем, и чувствовать себя частичкой огромного мироздания, стать такой же звёздочкой, которые сияли на небе, и создать вокруг себя свой собственный мир.
Я ощутил в себе силы и осознание того, что могу сделать всё, даже самое невообразимое: изменить всё вокруг себя, измениться сам, оставаясь в глубине себя тем самый, каким всегда хотел быть. Ведь, когда меняешься сам, то можно даже менять законы, создавая их для себя и под себя. Ведь даже классик материализма говорил, что человеческое мышление суверенно и неограниченно по своей природе, призванию, возможности и временной конечной цели. Но он тут же добавлял, что оно не суверенно и ограничено только по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности. Но если действительность можно менять, как это случилось со мной вчера, то и тогда данного закона тоже не существует, так как я сам могу научиться творить эту действительность. Возле этого фонтана я, находясь в состоянии барокко, чувствую себя Люлли и Людовиком Четырнадцатым, а когда дойду до следующего фонтана, то смогу окунуться с головой в стиль классицизма, и сразу же стану Моцартом, и вся действительность вокруг меня опять поменяется, потому что я буду уже «человеком в театре»; а у третьего фонтана я, превращаясь в «человека в храме», обрету образ бога и буду создавать вокруг себя музыку и свою собственную действительность, как это делает Луиджи. Сейчас он – бог, и при помощи своей философии и магического искусства способен менять окружающий мир. Но и я стану богом и создам свою философию со своими законами. И вот тогда столкнутся две философии: моя и магия Луиджи, и мы посмотрим, кто выиграет эту битву: я или он. И наградой победителю будет Агния. Кто-то один из нас, самый сильный, должен завоевать её сердце.