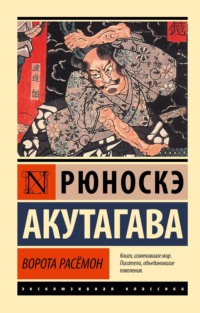
Ворота Расёмон
В то же время охотничий азарт не был моим единственным чувством. Помимо него… стоит лишь заговорить об этом – и я краснею. Помимо азарта мной двигала чистая похоть. Не сожаление, что я до сих пор не познал эту женщину. Нет, чувство более низменное, похоть ради похоти, для которой не имело значения, кто передо мной. Даже мужчина, покупающий услуги продажной девки в публичном доме, не опускается до такой грязи, как я в тот момент.
Как бы то ни было, движимый всеми этими побуждениями, я возлёг с Кэсой. Или, правильнее сказать, обесчестил её. Теперь, если обратиться к вопросу, заданному в самом начале, – люблю ли я Кэсу?.. Впрочем, нет смысла спрашивать об этом вновь. Напротив, порой я её ненавижу. Особенно после того, как всё было кончено, и я заставил себя обнять её, заливающуюся слезами, Кэса показалась мне ещё большей бесстыдницей, чем я сам. Спутанные волосы, белила на покрытом испариной лице… И душа, и тело – всё в ней было безобразно. Если я любил её раньше, в тот миг любовь исчезла навсегда. Если не любил – в моём сердце поселилась неведомая раньше ненависть. А потом… о! Ведь сегодня ночью ради женщины, которую не люблю, я должен убить мужчину, к которому не питаю злобы!
Мне некого винить. Я сам всё сказал – сказал без обиняков, собственными устами: «Давай убьём Ватару». Стоит вспомнить, как я прошептал это, склонившись к её уху, и я начинаю сомневаться: не безумие ли мной овладело? И всё же я прошептал. Сквозь зубы, вопреки себе самому. Сейчас, думая об этом, я и сам не понимаю, что меня подтолкнуло. Если поразмыслить хорошенько… Чем сильнее я презирал эту женщину, чем больше ненавидел её, тем сильнее мне хотелось её унизить. А не лучший ли способ для этого – предложить убить мужа, чью любовь она так превозносила, и заставить её волей-неволей согласиться? Потому-то, наверное, я, будто в кошмарном сне, и подбивал её на преступление, которого вовсе не хотел совершать. Если же счесть, что и этих мотивов недостаточно, остаётся заключить: я поддался неведомой силе (назовём её дьяволом), которая направила меня на путь преступления. Так или иначе, я вновь и вновь настойчиво шептал свои слова на ухо Кэсе.
Прошло какое-то время, прежде чем она вдруг подняла голову и покорно согласилась с моим планом. Меня удивило, с какой лёгкостью она это сделала. Взглянув ей в лицо, я увидел, что её глаза горят странным огнём, какого я раньше не видел. «Прелюбодейка», – ясно читалось в них. Одновременно я ощутил нечто вроде разочарования; внезапно перед моими глазами встал весь ужас задуманного. Не стоит и говорить, что меня всё время мучило отвращение к виду этой распущенной, поблёкшей женщины. Если бы я только мог, я бы прямо там, сразу же разорвал уговор с ней – и заставил бы неверную испить чашу унижения до дна. Быть может, так я успокоил бы свою совесть, за праведным гневом забыв о собственном грехе. Но я был не в силах. Когда она пристально взглянула мне в глаза и мгновенно переменилась в лице, будто смогла прочесть, что у меня на сердце… Признаюсь честно: я испугался – и потому угодил в ловушку, пообещав убить Ватару и назначив для этого день и час. Я испугался мести Кэсы. Даже теперь страх сжимает в тисках мою душу. Можете сколько угодно смеяться над моей трусостью – вы ведь не видели Кэсу в тот момент. «Если я откажусь, она прикончит меня – пусть и чужими руками. Раз так, лучше уж я сам убью Ватару», – в отчаянии подумал я, глядя в глаза Кэсы, плакавшей без слёз. Когда же я поклялся, она, опустив глаза, улыбнулась, и на бледной щеке появилась ямочка. Разве это не доказывало, что боялся я не зря?
О, из-за этого проклятого обещания я, уже запятнанный грехом, собираюсь обременить нечистую совесть ещё и убийством. Если сегодня ночью я нарушу слово… Нет, я не могу. Во-первых, я дал клятву. Кроме того, я уже говорил, я боюсь мести. Но есть и нечто другое, большее. Что же? Какая великая сила толкает меня, труса, на убийство ни в чём не повинного человека? Я не знаю. Не знаю, но, быть может… Впрочем, нет. Я презираю эту женщину. Боюсь её. Ненавижу. И всё же – всё же – быть может, дело в том, что я люблю её?
Морито умолкает, но продолжает расхаживать из стороны в сторону. Светит луна. Откуда-то доносится песня.
В человечьем сердце непроглядный мрак,В нём огонь желаний ярко запылал.Вспыхнет – и сгорает, гаснет без следа.Вот и жизнь земная, краткая, прошла.Часть 2Ночь. Кэса в своей спальне отворачивается от светильника и кусает рукав, погружённая в размышления.
Её монологПридёт? Не придёт? Мне не верится, что он может не прийти, но вот уже луна заходит, а я по-прежнему не слышу звука шагов. Неужели передумал? Если он не придёт… о, мне, словно распутной девке, придётся поднять горящее от стыда лицо и взглянуть в глаза новому дню. Разве мне достанет для этого дерзости и злонравия? Я буду словно труп, брошенный на обочине, – униженный, попираемый ногами, выставленный на всеобщее обозрение в своём сраме, но обречённый на немоту. Случись со мной такое, даже смерть не принесёт избавления. Нет-нет, он обязательно придёт. С тех пор, как я заглянула ему в глаза при нашей последней встрече, я не могу думать ни о чём другом. Он боится меня. Ненавидит, презирает – и при этом боится. Ради меня он, может, и не пришёл бы. Он придёт ради себя. Придёт, движимый себялюбием. Точнее, отвратительной трусостью, которая порождена его себялюбием. Потому я и говорю сейчас: я уверена, он будет здесь.
О я, несчастная – какое уж тут «ради меня»! Три года назад я знала, что могу рассчитывать на себя – на свою красоту. И даже после, ещё совсем недавно, вплоть до самой нашей встречи. В тот день, когда я столкнулась с ним в доме у тёти, мне хватило одного взгляда, чтобы прочитать в его душе: он считает меня безобразной. Он смотрел на меня, как ни в чём ни бывало, говорил ласковые слова, желая меня соблазнить. Но разве может утешиться словами сердце женщины, которая уже поняла: она уродлива? Это было унизительно. Страшно. Больно. Как-то ещё ребёнком я, сидя на руках у кормилицы, увидела лунное затмение и перепугалась; так вот тот ужас не идёт ни в какое сравнение с нынешним. Все мои мечты разом испарились. Мне осталось лишь одиночество, непроглядное, как дождливый рассвет, – и я, содрогаясь от него, отдала своё тело, уже почти мёртвое, этому человеку. Человеку, который не любит меня, который ненавидит и презирает меня, который одержим похотью… Выходит, я, увидев собственное безобразие, не смогла вынести одиночества? Пыталась обмануть себя минутной вспышкой страсти, прижимаясь лицом к чужой груди? Или, быть может, и мной, как этим человеком, двигала похоть? От одной мысли мне становится стыдно. Стыдно. Стыдно, какой же ничтожной я чувствовала себя, когда моё тело наконец высвободилось из его объятий!
Как я ни сдерживалась, пытаясь не заплакать, от гнева и тоски слёзы текли безостановочно. Меня печалил не только нарушенный обет верности. Мучительнее всего было сознание: меня ненавидят и презирают, будто покрытую паршой собаку. И что же я сделала? Сейчас, когда я думаю об этом, воспоминания кажутся далёкими и смутными, будто всё случилось давным-давно. Пока я всхлипывала и заливалась слезами, я почувствовала, как усы этого человека касаются моего уха, как его горячее дыхание обжигает кожу, и услышала шёпот: «Давай убьём Ватару». Едва прозвучали эти слова, я вдруг почувствовала, что оживаю, – сама до сих пор не могу понять почему. Оживаю? Да, это была вспышка жизни, столь же яркая, сколь свет луны, если его можно называть ярким, – и столь же далёкая от настоящей жизни, как свет луны далёк от солнечного. Тем не менее, разве его страшные слова меня не утешили? Разве я не женщина, которая счастлива от любви мужчины, – так счастлива, что готова убить собственного мужа? Какое-то время я продолжала плакать – одинокая, живущая лишь отражённым лунным светом. А потом? Потом? В какой момент я согласилась на убийство? Лишь тогда я впервые вспомнила про мужа. Говорю без лукавства – впервые. До тех пор я думала лишь о себе и своём унижении. Но тут мне вспомнился муж, такой застенчивый… Нет, даже не он сам. У меня перед глазами встала его улыбка. Наверное, когда я её вспомнила, в моей голове и сложился мгновенно план: я решила умереть – и это решение принесло мне радость. Слёзы остановились, я подняла голову и посмотрела тому человеку в лицо. Однако стоило мне прочитать в его душе, как я безобразна, и радость мгновенно улетучилась. И тогда… я опять вспоминаю тьму лунного затмения, которое видела, сидя на руках у кормилицы. Все чудовища, которые таились под покровом моей радости, махом вырвались на свободу. Оттого ли я собираюсь сейчас подменить собой мужа, что люблю его? Нет, это лишь удобное объяснение – на самом деле я пытаюсь искупить измену. Убить себя самой мне не хватает мужества. Но мной движет низменное стремление выглядеть хоть немного лучше в чужих глазах. Впрочем, на меня никто не обратит внимания. И в действительности я ещё отвратительнее, ещё безобразнее. Подменив собой мужа, разве не хочу я отомстить тому, другому мужчине – за его ненависть, за его презрение, за то, что была для него лишь игрушкой? Доказательство тому – когда я смотрю в его лицо, странное, похожее на лунный свет оживление гаснет, и мою душу сковывает тоска. Я умру не ради мужа. Я умру ради себя. Умру, ибо сердце моё ранено, а тело – осквернено. Я не только жить не могу достойно. Я не могу и достойно умереть.
Но даже такая, без достойной причины, смерть куда желаннее, чем жизнь. Улыбаясь через силу, несмотря на печаль, я вновь и вновь соглашалась на убийство мужа. Тот, другой, догадлив – по моим словам он понял, как я с ним поступлю, если он нарушит обещание. А значит, он не может не прийти – он ведь дал клятву… Что это, ветер?.. Стоит подумать: я больше не буду страдать, как страдала с того самого дня, – и мне становится легче. Завтрашнее утро прольёт холодный тусклый свет на моё бездыханное тело. И муж, который увидит меня… нет, о нём я не буду думать, он меня любит. Но эта любовь ничего не может изменить. Моё сердце с давних пор отдано одному человеку. И сегодня он придёт убить меня. Мне хочется скрыться даже от света фонаря – такую боль причинил мне мой возлюбленный.
Кэса тушит фонарь. Вскоре в темноте раздаётся слабый звук: отодвигается створка окна. В комнату проникает бледный свет луны.
Март 1918 г.
Муки ада
1Такого человека, как господин Хорикава, никогда не бывало на свете и, пожалуй, не будет. Ходят слухи, что до того, как он явился в наш мир, на подушке у его матери само собой появилось изображение бога Ямантака. Так или иначе, с самого рождения он отличался ото всех, и поэтому деяния его не могли не изумлять окружающих. Стоило только посмотреть на дворец Хорикавы – тамошние величие и размах превосходят всё, о чём может помыслить человек обыкновенный. Потому иные осмеливались осуждать господина, сравнивая его нелестным образом с китайскими императорами Цинь Ши-хуанди и Суй Ян-ди[22]; но все эти кривотолки напоминают притчу о слепых, которые ощупывают слона. Не в том был замысел господина Хорикавы, чтобы самому наслаждаться богатством и роскошью; напротив, он всегда пёкся о нижестоящих и великодушно стремился к тому, чтобы все вокруг пользовались плодами его забот.
Оттого господину не повредила и встреча со злыми духами на перекрёстке Нидзё-Оомия. И даже призрак, который, как говорят, каждую ночь появлялся во дворце Кавара на Третьей улице – сад в нём знаменит тем, что повторяет пейзажи соляных копей Сиогама в северной провинции Митиноку, – даже этот призрак Левого министра Тору[23] бесследно исчез, когда господин Хорикава обратился к нему с упрёками. Таким уважением пользовался наш владетель, что многие в столице – и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, – смотрели на него как на воплощение божества. Однажды, когда он возвращался с пиршества по случаю цветения сливы, из его экипажа выпрягся вол и подмял переходившего дорогу старика. Тот же, молитвенно сложив руки, лишь вознёс благодарность за то, что пострадал от животного, которое принадлежало высочайшему.
Так обстояло дело, и потому истории о жизни нашего господина будут помнить ещё долго: как на великом пиру он пожаловал гостям тридцать белых лошадей; как отдал мальчика – своего любимца – для жертвоприношения при закладке моста через реку Нагара; как велел китайскому монаху, который владел секретами врачевания, передававшимися от самого Хуа То[24], вырезать ему язву на бедре… Рассказам этим нет числа. Но не найти среди них более страшного, чем история ширмы с изображением адских мук, хранимой как реликвия в семье Хорикава. Даже сам господин, которого обычно ничто не могло смутить, в тот раз был поражён до глубины души. Что же до нас, его слуг, – у нас и вовсе чуть душа с телом не рассталась от ужаса; никакими словами не выразишь, что мы испытали. Сам я провёл на службе двадцать лет, но ни разу за это время не видел ничего настолько пугающего.
Однако прежде чем поведать эту историю, следует рассказать о художнике по имени Ёсихидэ, который и нарисовал муки ада на ширме.
2Наверное, и сегодня ещё остались люди, которые помнят Ёсихидэ. В то время считалось, что ему нет равных в мастерстве художника, – так он был знаменит. Когда произошла эта история, ему было около пятидесяти. Мне он помнится маленьким, тощим – кожа да кости! – злобным стариком. Являясь ко двору господина, он обычно надевал красно-коричневую накидку-карагину и высокую чёрную шапку-эбоси. Благородства в его чертах было мало, но особенно выделялись не по возрасту красные губы – в них чудилось что-то отвратительное, звериное. Говорили, что он облизывает кисти, когда рисует. Правда ли – бог весть. Что до недоброжелателей, те утверждали, будто Ёсихидэ видом и повадками похож на обезьяну, так это прозвище к нему и приклеилось.
Про Ёсихидэ-Обезьяну передавали и такой рассказ. При дворе нашего господина прислуживала единственная дочь художника – в отличие от отца, прелестное создание пятнадцати лет от роду. Быть может, оттого, что она рано осталась без матери, девица эта была не по годам разумной и добросердечной, и потому все, начиная с супруги господина, её любили.
Как раз в ту пору нашему господину подарили ручную обезьянку, которую привезли из провинции Тамба, и молодой наследник, любивший поозорничать, назвал её Ёсихидэ. Обезьянка и сама по себе была презабавной, а уж с таким именем неизменно веселила любого, кто был при дворе. Мало того, что все смеялись, – так стоило зверушке взобраться на сосну в саду или испачкать татами в парадных залах, как её принимались дразнить, крича: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!»
Однажды дочь художника шла по длинной галерее, неся в руках ветку зимней сливы, к которой было привязано письмо, как вдруг навстречу ей из дальних дверей бросилась обезьянка Ёсихидэ – она припадала на одну лапку и потому не могла с обычным своим проворством взобраться по деревянной колонне. И кто же появился следом? Не кто иной, как господин наследник, который гнался за беглянкой, размахивая хлыстом и крича: «Стой, стой, отдай мандарин!» Дочь Ёсихидэ на мгновение заколебалась, однако подбежавшая обезьянка, вцепившись в подол её шаровар-хакама, отчаянно закричала, и девушка не смогла не поддаться жалости. По-прежнему сжимая в руке ветку сливы, она взмахнула лиловым рукавом и легко подхватила животное.
– Простите великодушно, но это всего лишь зверушка. Прошу вас, не будьте к ней суровы, – пропела она серебристым голоском, склонившись в поклоне.
Молодой господин был рассержен не на шутку и, нахмурившись, затопал ногами:
– Почему ты её защищаешь? Она украла мандарин!
– Это всего лишь зверушка… – повторила девушка и, грустно улыбнувшись, добавила: – Кроме того, её зовут Ёсихидэ, и мне всё кажется, будто это моего отца хотят наказать…
Тут, конечно, молодой господин волей-неволей от неё отступился:
– Что ж. Если ты просишь за отца, я, так и быть, её прощу, хоть она этого и не заслуживает. – Он отбросил хлыст и удалился в ту же дверь, откуда вышел.
3После того случая дочь Ёсихидэ и маленькая обезьянка подружились. Девушка повесила ей на шею золотой бубенчик, полученный в подарок от дочери нашего господина, на красивом малиновом шнурке. Обезьянка теперь не отходила от неё ни на шаг, и, когда девушка простудилась и лежала в постели, сидела у её изголовья с печальным видом и грызла ногти, будто беспокоилась о подруге.
Как ни странно, зверушку больше никто не дразнил, напротив, её все полюбили, даже молодой господин в конце концов стал угощать хурмой и каштанами и страшно рассердился, когда какой-то приближённый её пнул. Об этом прослышал сам сиятельный Хорикава и повелел дочери Ёсихидэ явиться пред свои очи вместе с обезьянкой. Видимо, тогда он и узнал, отчего девушка так заботится о зверьке.
– Ты почитаешь родителей. Хвалю тебя за это, – сказал он и пожаловал девице алое кимоно.
Тут и обезьянка, подражая человеку, принялась рассматривать подарок, что нашего господина весьма позабавило. Как видите, благоволение, которое он оказывал дочери Ёсихидэ, проистекало из того, что ему понравилась её дочерняя почтительность и то, как она защищала обезьянку, а не из того, что он, как болтали некоторые, положил на девицу глаз. Слухи такие возникли, может, и не без повода, но о том расскажем в свой час. Так или иначе, господин наш уж точно был не таким человеком, чтобы заглядываться на дочь простого художника, будь она хоть самой что ни на есть раскрасавицей.
Итак, получив знаки высочайшего благоволения, дочь Ёсихидэ удалилась; и до того была она мудра, что не навлекла на себя зависти других низкородных прислужниц. Напротив, её, как и обезьянку, привечали теперь ещё больше. Молодая госпожа с девицей не расставалась и всегда брала с собой в карету, когда ехала на прогулку.
Рассказав о дочери, поведаю и об отце. Обезьянка со временем стала пользоваться всеобщим расположением, однако самого великого Ёсихидэ по-прежнему не любили и называли промеж себя Обезьяною. Надо сказать, смотрели на него косо не только во дворце. Настоятель храма в Ёгаве ненавидел его так крепко, что, стоило упомянуть о художнике, даже менялся в лице, словно увидел демона. Говорили, правда, будто настоятель сердится оттого, что Ёсихидэ нарисовал на него карикатуру, – но это лишь болтовня слуг, и, сколько в ней правды, неизвестно. Одним словом, старика недолюбливали все. Хорошее о нём могли сказать разве что два-три других художника, либо те, кто видел его картины, но не знал, что он за человек.
Ведь мало того, что Ёсихидэ был непригляден на вид, – куда хуже были его поступки; а потому ему некого было винить во всеобщей нелюбви, кроме самого себя.
4Каковы же были его поступки? Ёсихидэ отличался скупостью, грубостью, бесстыдством, ленью и алчностью. Но хуже всего были его высокомерие и самодовольство; он утверждал, будто ни один художник во всей стране не в силах с ним сравниться, и ходил, задрав нос до небес. Если бы речь шла только о ремесле живописца, его ещё можно было бы простить, однако он презирал всё на свете, даже древние традиции и обычаи. Ученик, проведший с Ёсихидэ много лет, рассказывал, что однажды в усадьбе у одного вельможи в прославленную жрицу Хигаки вселился дух покойного, и она принялась изрекать леденящие душу пророчества; художник, не слушая её речей, схватил кисть с тушечницей и стал рисовать искажённое лицо жрицы. Видимо, проклятие он считал детской шуткой.
Такой он был человек, что богиню красоты Киссётэн рисовал с гулящей девки, а бога Фудо-Мёо – со злодея, отбывшего срок в тюрьме; и много делал такого, чего лучше бы не делать. Когда же его пытались усовестить, лишь говорил с беззаботным видом: «Странно мне слышать, будто боги и будды, которых я же и рисовал, захотят покарать меня за рисунки». Неудивительно, что даже среди его собственных учеников немало оказалось тех, кто убоялся грядущих несчастий и решился его покинуть. Как назвать такое поведение? Только непомерным высокомерием. Видно, старик и впрямь считал себя превыше всех на свете.
До чего Ёсихидэ преуспел в искусстве рисования, даже описать трудно. Впрочем, картины его сильно отличались от картин других художников, как манерой письма, так и колоритом, и немало собратьев по кисти были недовольны и называли его шарлатаном. Они говорили, что, мол, ежели взять произведения великих мастеров прошлого – Каванари или Канаока, – то про них рассказывают красивые легенды: будто в лунные ночи можно ощутить аромат цветущей сливы, нарисованной на раздвижных дверях, или услышать, как с бумажной ширмы играет на флейте придворный; в картинах же Ёсихидэ непременно есть что-то извращённое и отвратительное. Скажем, на воротах храма Рюгайдзи он изобразил Пять путей перерождения, и говорили, что, когда поздно ночью там случалось проходить путникам, они слышали вздохи и рыдания существ из другого мира. Также утверждали, что когда Ёсихидэ по желанию господина рисовал портреты придворных дам, те, кто был на них изображён, в течение трёх лет заболевали, лишаясь мало-помалу жизненной силы, и в конце концов умирали. Противники художника видели в подобных историях главное доказательство того, что он в своём ремесле встал на дурную дорогу.
Впрочем, сам Ёсихидэ, человек своенравный, подобной репутацией лишь гордился. Однажды, когда наш господин в шутку заметил: «Похоже, тебе нравится уродство», – тот, растянув алые губы в недоброй улыбке, самодовольно ответил: «Так и есть. Лишь те из художников, кто мыслит мелко, не в состоянии увидеть в уродстве красоту». Будь он хоть сто раз самым лучшим живописцем в стране – а всё-таки удивительно, как он решился так дерзко разговаривать с господином. Не зря его собственный ученик, тот самый, что рассказывал про жрицу Хигаки, за высокомерие прозвал его Тира-Эйдзю – а это, как вам известно, имя длинноносого демона-тэнгу[25], пришедшего в нашу страну из Китая.
Но даже у Ёсихидэ, который всё делал не так, как принято у людей, – даже у него, как у любого другого человека, имелась одна привязанность.
5Что же это была за привязанность? Ёсихидэ до безумия обожал свою дочь – ту самую, что служила при дворе нашего господина. Как говорилось ранее, дочь была девицей благонравной и всей душой преданной отцу, однако и он любил её не меньше. И вот что удивительно: тот самый Ёсихидэ, который никогда в жизни медной монеты не пожертвовал ни одному храму, для дочери не жалел ничего и с готовностью тратил деньги ей на одежду и драгоценные заколки.
Тем не менее, балуя дочь, он не заботился о том, чтобы найти ей хорошего мужа. Какое там! Стоило кому-нибудь начать с ней заигрывать, как он готов был нанять головорезов, чтобы избавиться от наглеца. Потому-то, когда по слову господина девушку взяли в услужение во дворец, старик был весьма недоволен и даже в высочайшем присутствии долгое время ходил мрачнее тучи. Именно из-за его кислого вида и пошли слухи, будто господин, покорённый красотой девицы, познал её без родительского дозволения.
Слухи, разумеется, были ложными, но Ёсихидэ, всем сердцем любя дочь, и правда мечтал, чтобы она вернулась домой. Однажды он по приказу господина изобразил Манджушри-ребёнка, написав его с мальчика, который был высочайшим любимцем, и так чудесно у него это получилось, что господин, до крайности довольный, сказал: «Проси в награду, чего пожелаешь, ни в чём не стесняйся». И как вы думаете, что ответил, почтительно поклонившись, Ёсихидэ? Он осмелился сказать: «Прошу вас отпустить мою дочь». Слыханное ли дело – проявлять такую дерзость, пытаясь самого владыку лишить прислужницы: «она, мол, мила мне самому»? Господин, хоть и пребывал в благодушном настроении, помрачнел и некоторое время молча глядел Ёсихидэ в лицо, пока наконец не бросил: «Не будет этого», – и, вдруг поднявшись с места, удалился. Подобное повторялось ещё четыре или пять раз. Теперь, когда я вспоминаю прошлое, мне думается, что с тех-то пор и начал господин смотреть на Ёсихидэ всё холоднее и холоднее. К тому же и дочь Ёсихидэ тосковала по отцу и частенько, удалившись в женские покои, плакала, утирая слёзы рукавом. Тут уж все стали болтать, будто сиятельный Хорикава увлечён этой девицей. Находятся и такие, кто утверждают, будто вся история с ширмой, на которой изображены муки ада, приключилась из-за того, что дочь Ёсихидэ не ответила на высочайшие чувства. Да только это уж и вовсе пустое.
Думается мне, господин потому не стал возвращать дочь отцу, что преисполнился к ней сострадания и не желал обрекать её на жизнь с таким упрямцем, но желал, чтобы она жила во дворце, ни в чём не стеснённая, – ибо видел, как она добра сердцем, и стремился явить своё великодушие. Россказни же, будто интерес его был небескорыстен, – лишь пустые небылицы, для которых нет и не может быть никакого основания…
Так или иначе, из-за дочери Ёсихидэ уже не пользовался такой милостью, как раньше. И бог знает, что замыслил наш господин, но однажды он вдруг призвал художника к себе и велел ему изобразить на ширме муки ада.

