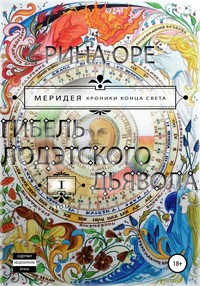
Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том
________________
Тетка Клементина выпрыгнула из-за угла и схватила племянницу за руку повыше локтя, когда та еще спускалась с чердака. Эта маленькая, тощая женщина стискивала ладонь хваткой палача, и Маргарита попробовала вырваться просто так, прекрасно понимая тщетность своего сопротивления.
– Да стойся же ты! – прикрикнула на нее тетка Клементина. – Там к тебе подружка пришла. Ждет в лавке. Поди тудова и ничто там не тронь, покудова дядя не воротился. Да, еще возьми ведро с тряпкою: натри там полов, а то Беати небось нанесла золы. Скупит на медяк, а ты чисти́ за ею… – ворчала она, грубо отталкивая от себя племянницу.
Красивая, смуглая Беати действительно находилась в сказочном и запретном для Маргариты месте. Равнодушная к диковинам съестной лавки, она весело болтала о чем-то с Синоли, трогая его за рукав. Маргарита не видела их лиц, но спина брата казалась и смущенной, и воодушевленной одновременно.
«Не знаю, что значит братово имя, но Беати – это "счастливая". Беати сама веселая и всех вокруг делает радостными… Синоли и Беати… А они вместе еще крашее: загорелая, яркая южанка и светлокожий, русоволосый Синоли. Хоть бы они сженились – тогда Беати былась бы мне сестрою…» – подумала Маргарита и, обращая на себя внимание, громко опустила деревянное ведро на пол.
– Гри́ти! – воскликнула Беати и подпорхнула к подруге.
Сестра Нинно отличалась очень высоким ростом для женщины: она оказывалась на голову выше почти всех местных лавочников. Маргарита так вообще рядом с ней выглядела девчонкой. Женственную фигуру Беати, ее дерзко приподнятую грудь и тонюсенькую талию, подчеркивал узкий пояс платья, а юбка смуглянки всегда была чуть короче, чем у остальных дам.
«Это всё зола от кузни брата, – объясняла она тем, кто видел ее впервые. – Так и липнет, проклятая, к подола́м».
Недостающая длина в два пальца выше щиколотки дурманила мужские рассудки. Если бы не Нинно, которого все в округе побаивались, Беати не знала бы покоя из-за «докучных докучал». К красавице заранее сватались, едва ей исполнилось двенадцать, но она от всех ухажеров воротила нос. Когда в прошлом году Беати стала невестой, то в дом кузнеца повалили женихи, да вот пускали их не дальше порога. Поэтому Синоли, подмечая несомненное расположение чаровницы, терял голову, не верил своему счастью и благодарил Бога за то, что уродился на полпальца выше этой горячей южанки и тем самым привлек ее. Еще Синоли был уверен, что красота его собственных ног сыграла не последнюю роль. Пока женщины Меридеи, как и циклы лет до этого, носили целомудренные длинные юбки, мужчины еще с тридцать шестого цикла лет гордо выставляли напоказ ноги в узких штанах из раскроенного по косой сукна. Даже землеробы носили предтечи штанов – подвязываемые к поясу чулки. Поэты воспевали красоту мужских, особенно рыцарских, ног; художники с удовольствием их изображали. Дабы ноги казались длиннее, модники выбирали обувь с острыми носами-иглами. Гульфик еще прятали под камзолами, но всё чаще щеголи подчеркивали свое детородное достоинство. Так как нынешняя мода восхваляла плодородие, а наряды аристократов уподоблялись образам зверей и птиц, то с началом сорокового цикла лет идеалом мужской красоты перестал быть «чистый юноша», и вчерашние красавцы увеличивали выпуклость в промежности подкладками, выделяли гульфик ярким цветом или украшали его броской вышивкой.
Среди лавочников, далеких от щегольства, эта новая мода на выпячивание гульфика, «срамного лоскута», тоже считалась срамной. Маргарита, имея некое понимание о различии полов и повинуясь неосознанным чувствам, разделяла это мнение. Синоли тоже его придерживался и всегда носил длинную рубаху, но свои стройные, ровные ноги в узких зеленых штанах нарочно старался выставить в выгодном положении. Еще старший брат Маргариты утверждал, что, хотя он не рыцарь, из-за работы водоносом заполучил эти самые «рыцарские ноги». На безымянную улочку рыцари не заглядывали, поэтому соседи, да и Маргарита, верили Синоли, искренне восторгаясь красотой его ног.
Вот и сейчас, пока Беати приветствовала подругу, Синоли облокотился на прилавок и изящно вывернул свои ступни в грубых башмаках, подкованных деревянными плашками, чтобы смуглая красавица, обернувшись, восхитилась его неотразимостью.
– Гри́ти, – повторила Беати, называя подругу уменьшительным именем. – Да как можно работать в этот день?! Не благо!
– «Не благое – замуж не выйти», как тетка сказала, – вздохнула Маргарита, обнимая Беати. – И еще: «Лентяйка – хуже́е бесприданной невесты»…
– Ой, тогда нажелаю-ка я тебе наискорейшего замужничества… – улыбнулась Беати.
Она подтянула вверх шнурок поясного ремня, на каком болтался кошелек, достала платочек и развернула его – на ее ладони заблестело колечко. Синоли, вспомнив о дне рождения сестры, звонко шлепнул себя по лбу.
– Вот, это дар от меня и братца, – сказала Беати, передавая кольцо и снова обнимая подругу. – Нинно сам его смастерил. Это жуть чистое серебро! Глянь, как оно ярчает!
Кольцо подошло к безымянному пальцу правой руки. Маргарита залюбовалась его изящными линиями, тем, как оно смотрится, как блестит и украшает ее пальчики. В своей страшноватой кузне, избе из почерневших, сложенных с зазором бревен, Нинно ковал грубые, прочные вещи: подковы, детали для телег и топоры. И вдруг такое утонченное творение с рисунком из ирисов – цветов красоты, чистоты и силы. Ирисы еще называли «лилия-меч», поскольку, прежде чем раскрыться, они напоминали клинок этого благородного оружия. Хотел ли вложить кузнец некий смысл в свой подарок или нет, Маргарита даже не подумала гадать: она лишь разглядывала колечко и едва верила, что ручищи Нинно могли создать это чудо.
– Жалко, но я не могусь его взять, – печально проговорила Маргарита. – Тетка воспрещает брать ценные дары от чужих, тем более от мужчин, а серебряники выставили бы это колечко не меньше́е чем за двадцать регнов.
– Бери много выше́е, – засмеялась Беати. – Брат брал у одного из ихних инструменты́, и когда тот колечко увидал, сулил сотню! А продал бы его и того дороже́е: за сто пятьсят регнов!
– Тогда точно не возьму, – принялась снимать кольцо с пальца Маргарита, но Беати ее остановила и замотала головой.
– Ты чё! Нинно разобидится: он с триаду корпел! Вот сама ему и вороти, а мне уж пора. Еще раз здравляю! Крепко целую! – чмокнула она подругу в обе щеки. – Не забудь ночью нагадать желанье!
– Беати, я провожу тебя, – подал голос Синоли. – Погоди с мушку на улице.
– Тебе же нельзя бросать лавку, – строго сказала Маргарита, когда высокая, но легкая Беати упорхнула за дверь.
– Да ну… – отмахнулся Синоли и плотно закрыл нижние ставни у прилавка, погрузив комнатку в полумрак. – Ничто за три минуты не будется – я мухой. Ну как Беати одной гуливать в ее наикоротющей юбке?! Слухай, сестренка, – вздохнул он, – прости… я вроде забыл и не наготовил тебе дар. Но он у меня будет – наибольшущее торжество в честь нарожденья у нашего герцога дочери! В благодаренье пойдем на Главную площадь, поглазеем на казни под музыку. Герцог наверняка тоже слово скажет. Я слыхал, там уже ложат помост с навесом. Просто так таковские помосты не ложат… Хочешь глянуть вблизи на герцога Альдриана Красивого?
– Очень хочу! Но… вряд ли меня выпустят. Тетка думает, что я простынью Агне спортила, и будет восьмиду злобствовать, что поистратилась.
– Ну ты – эт ты! – обнял ее Синоли. – Ни дня с тобою без беды! Ну, я побёг… Скор буду! Ничё не трогай и не облизывай сласти, а то мне влетит, – добавил он, выходя за дверь. – И не побей ничё! – донеслось уже с улицы.
Синоли помогал дяде тем, что зазывал из широкого окна в лавку прохожих, и, благодаря привлекательной внешности, словоохотливости да умению шутить, он хорошо с этим справлялся. Закрытые ставни говорили горожанам, что лавка не работает, поэтому Маргарита не опасалась, что кто-нибудь зайдет. Она посмотрела в тот угол, что манил ее сильнее всего, – там, на полках, ласкали взор сладости в коробочках, похожие на самоцветы в шкатулках: орешки в карамели, сушеная вишня, цукаты, миндальная халва, всевозможные конфеты, пастилки из кореньев, анисовые леденцы, разноцветное драже, – чего там только не было! Виднелись и какие-то новые придумки ее затейливого дядюшки. В день рождения Маргарита, уединившись в своей спаленке, за раз уминала дарованное «сокровище», а потом засыпала с тошнотой от сахара и меда, но с блаженной улыбкой. И затем ждала еще год этого радостного дня.
Девушка отщипнула маленький кусочек халвы, далее еще один, но после заставила себя остановиться. Она глянула на ведро, протяжно вздохнула и перевела свой взгляд в угол напротив прилавка – на напольные часы, к каким ей тоже запрещали приближаться. Подумав, Маргарита несмело подкралась к этому громоздкому устройству, на колонне-ноге и с солидной подставкой. Часы изображали здоровый, как ящик, грубо выточенный из дерева и аляповато раскрашенный рыцарский замок с четырьмя башенками, балкончиком в вышине и единственными дверцами за ним. Под за́мком висели две гири, сверху росла шатром пирамида из четырех металлических скоб с колоколом внутри и молоточком сбоку, а под балкончиком разместился двойной круглый циферблат – и солнечный календарь, и часы в его центре. Маргарита приложила глаз к оконцу замка и убедилась, что внутри по-прежнему вертятся непонятные ей зубчатые круги. Она перевела взгляд на маленький циферблат часов, огорчаясь, что он двигается влево очень медленно. Вот в храме Благодарения красочный сатурномер (солнечно-лунный календарь) располагал и часовым, и минутным диском, и еще шестью другими. Слушая песнопения в храме, ей нравилось смотреть, как два диска, часовой и минутный, одновременно перемещались влево, отмеряя время службы в семьдесят две минуты или три триады часа.
А здесь, в лавке, механизм внутри рыцарского замка крутил единственный часовой диск – дневные деления на календаре приходилось подвигать к северной стреле меридианского креста вручную, тем не менее столь важная для верующего вещь являлась чрезвычайной ценностью. Поначалу «замок» даже установили в гостиной, где он пробыл до первой полуночи, до того как все в зеленом доме подпрыгнули на своих постелях из-за непонятного звона. Когда Маргарита, одевшись, вышла из спальни, ее дядя под ворчание супруги уже выволакивал часы из гостиной.
– Год делится на восемь частей – восьмид, по числу Добродетелей и Пороков, – сказала вслух Маргарита. – И день поделен на восемь часов от полуночи и на восемь часов от полудня. Восьмида года и час дня еще делятся на три части – на триады. Есть триада часу и триада восьмиды, но триаду восьмиды всегда зовут просто «триада» без уточнениёв. Всякая восьмида года начинается с календы, первого дня первой триады. Вторая и третья триады начинаются с дня, каковой звать «нова». Все триады окончает благодаренье, а ихняя середина – это медиана. Прочие дни в триадах именуют в честь планет. Сегодня день сатурна… – улыбнулась Маргарита. – Мой день нарождения – это первый день сатурна первой триады Нестяжания, завтра же ступит день солнца, день перед медианой. В медианы тоже надо бы бывать в храме, как и в благодаренья, но мы по медианам остаемся в дому, ведь и за службу надо упло́чивать, и после жертвувовать, а тетка Клементина жадная…
Она замолчала и прикинула, сколько же тетка будет вспоминать порванную простыню. В прошлый раз Маргариту в наказание не взяли в храм, оставив ее молиться дома, поскольку службы по благодареньям с песнопениями хористов под чудесную музыку были главным развлечением для небогатых жителей континента Меридея.
– Вокруг нашей планеты Гео сперва крутится Солнце, затем второй идет Луна, – продолжила разговаривать сама с собой перед часами Маргарита. – Неправедной жизнью мы близим Солнце и Луну, а праведной – нет. Светила, хоть и ходят цельный год по-разному, в конце всякого года едва расходятся, а мы все едва не гибнем. Если мы, верующие меридианцы, все вместе будем стараться не грешить Пороками по календарю и часам, то навлияем на ходы светил: они разойдутся, ступит новый год и мир спасется от гибели, – это и есть наша меридианская вера. И, конечно, со своими Пороками, данными нашей плоти при нарождении, нам тоже нужно бороться, иначе наши души падут с Небес в адовы ровы наказаний! Итак, сперва солнечный календарь. Год зачинается с восьмиды Веры – это первая людская Добродетель, а ее противположность – это последний человечий Порок – Уныние. Всю восьмиду Веры надо столь велико веровать в Бога, что при молитве плакать от счастия блаженным плачем. Уж что-что, а плакать я могу… Лучше́е меня после началу года никто не плачет! В Великое Возрождение я на всякий случай еще день старалася – всё плакала и плакала… И благодарила за это Бога, конечно… Восьмида Веры окончается празднеством Перерождения Воздуха, после чего – весна и восьмида Смирения. В эту восьмиду надо бороться с Тщеславием. В конце восьмиды Смирения празднуют Весенние Мистерии. Сейчас уже шесть дней, как пошла вторая весенняя восьмида – восьмида Нестяжания, а ее Порок – это Сребролюбие. После нынешней восьмиды нас ждет празднество Перерождения Воды, и ступит лето. Первая летняя восьмида – восьмида Кротости, ее Порок – это Гнев. После празднества Летних Мистерий, пойдет вторая летняя восьмида – Трезвение, и надобно бороться с Леностью. Следом, после празднества Перерождения Земли, – осень и восьмида Воздержания с Пороком Чревообъядения. В эту восьмиду блюдят пост: не пьют вин и молока, не кушают мяса, сыра и яиц. После Осенних Мистерий – вторая осенняя восьмида – Целомудрие с Пороком Любодеяния… В эту восьмиду тоже пост… но никак не повязанный с кушаньями… Дядя мне лет пять назад обещался сказать, как раз когда мне сбудется четырнадцать, чего же это за пост. Надо бы не забыть и спросить его сегодня… Осень окончает празднество Перерождения Огня – и начинается восьмида Любви, а с ней зима. В эту восьмиду надо сильно-сильно бороться с Гордыней, затем что это последняя восьмида года и нас всех ждет Судный День и его страшенная Темная Ночь – это сорок шестой день Любви, последний день в годе. В полночь Темной Ночи луна и солнце наближаются и еле-еле расходятся. Если ночь не превратилася в день, то минувший год мы вели себя скорее праведно, чем нет, – и заслужили проживать еще год. Дьявол и демоны изводят огроменные силища в Темную Ночь, чтобы светила всё же столкнулися, конти́ненты сдвинулися, на Гео пролилися кипящие дожди с лавою и в итогах ступил вечный мрак, – чтобы все люди сгибли из-за грохоту, потопу и землетрясенья, а после с голоду и холоду в вечном мраке, затем-то даже короли стоят в храмах на коленях и молят, чтобы у Дьявола ничто не вышло. Мы, Ботно, тоже всей семьей молимся на площади перед храмом Благодарения, пусть и стоять два часа зимой на коленях, даже в лиисемскую зиму, жуть холодно и мёрзло, но никто не жалувается. Ровно в полночь Темной Ночи ступает самое великое торжество – миг Возрождения: Солнце и Луна расходятся, демоны и Дьявол исстрачивают все свои силы – и нечисть до конца первой триады слабая да ничуть не страшная. Так люди побеждают молитвою самого Дьявола! Но в конце всякого цикла из тридцати шести годов небесные светила уже не близятся, а летят друг к другу. Из-за этого Божий Сын умирает в мучениях, чтобы развести светила и всех нас спасти. Если бы не громадная сила от его досмертных страданий, то давно ступил бы Конец Света, ведь человек слаб, грешен и ему не всегда удается вести себя так, как велят календарь и часы. Мы все стараемся, конечно, но одних людских усилиев уже не хватает, да еще и Дьявол козни строит. В Великое Возрождение Божий Сын сперва гибнет – и тут же возрождается душою в своем годовалом сыне, – так начинается новый цикл лет из тридцати шести годов до новой гибели нового Божьего Сына. Меридианцы за свое спасенье так чтят его подвиг, что нет святыни больше́е, чем златое распятие. После Возрождения все радуются и обнимаются. Даже в обычное Возрождение плачут от счастью в первый час после полуночи и возносят хвалы Богу, – вот так совстречают новый год, вторую зимнюю восьмиду Веры и ее Порок Уныния… И как можно унынивать, когда едва переживал Темную Ночь и близкую гибель? – поджимая губы, с недоумением покачала головой девушка. – Верно, что унынников ждет в Аде Пекло, а гордецов и богохульников – нечистоты. Так вам и надо! Вот праведные люди радуются всю первую триаду Веры, не работают и ходят по ярмаркам. Даже войны перерываются на всю зиму, на все восьмиды Любви и Веры… А окончается зима празднеством Перерождения Воздуха. В Лиисеме пробуют молодое вино, в городе распускаются миндальные деревья, в лесе – нарциссы, и случается «Бал Цветов». Хоть бы одним глазком поглазеть на бал в замке герцога Альдриа́на… – прикрывая веки, мечтательно вздохнула Маргарита. – А на Весенние, Летние и Осенние Мистерии жгут ведьму. В эти празднества стаётся встреча стихий. Знание, каковое дал нам вместе с верой первый Божий Сын, оно учит, что всё на свете – это стихии и их смеси, но Вода никогда не мешается с Огнем. Только в человеке намешиваются все четыре стихии, как и в Боге. Священники говорят, что нам свезло и что не ценить страдания – гневить Бога, тяжко грешить неблагодарностью, а то и Унынием. Вообще, я многого не понимаю в знании, но это неудивительно – смеси стихий так сложно познать, что священники учат Богознание годов пятнадцать, я же лишь четыре урока Боговедения имела… Так, а что там мне дядюшка про часы сказывал? – стала вспоминать девушка, напрочь позабыв об уборке и разговаривая сама с собой. – С полуночи или полудня берётся первый час. С полудня идет служба в храмах, значит: первый час – это время Веры, и надо молиться. После службы идет час жертвуваний в храмах – прихожане должны бороться со своим тщеславием: больше́е жертвувовать на Священную войну, заботиться о распространенье веры и спасении мира, отказывая себе в новом наряде или в прочих вещицах, за́видных, конечно, но губящих душу, – это время Смирения. Третий час – время Нестяжания. После храму нам надо бы подмочь милостынью убогим, а в будни не явить корысти. С трех до четырех, как говорит дядя, люди окончают работу, получают плату или сосчитывают выручку, – мы не должны гневаться, а кротко принять то, что заслужили: четвертый час – время Кротости. С четырех до пяти… Нууу, – протянула девушка, трогая циферблат, – об этом часе тетка позабыть не даст – в это время ступает рассвет, и одни лентяйки почивают после пятого часу. Пятый час – это час Трезвения. Утром и вечером до конца пятого часу надо поспеть позавтракать и пообедовать, ведь затем ступит шестой час Воздержания. Кушать с пяти до шести – снова близить светила, и Экклесия воспрещает в этот час трапезы. А после часу Воздержания – седьмой час Целомудрия… Чего же воспрещают в час Целомудрия? Мне вечером в этот час, с шести до семи, надо започиваться. Последний восьмой час – время Любви. Днем надобно с любовью пойти на службу в храм, а ночью в это время уже спать. Когда человек спит – он всех любит: вот это и время Любви. А гордецы и бездельники еще не спят, не боятся лунного свету и мыслят о ересях всяковых… и за это будутся плавать в нечистотах после смерти!
Довольная собой и тем, как она хорошо всё помнит, Маргарита заговорщически улыбнулась часам. Мыть пол девушке не хотелось, поэтому она провела пальцем по циферблату, нарисовав крест и соединив четыре Добродетели.
– Все мы, люди, нарождаемся только с Добродетелями, но несем крест из дурных и добрых склонённостей, – пояснила она свои действия. – Этот крест у всех разный: может бывать как у меня – три Порока и лишь одна Добродетель, а может бывать как у тетки Клементины – три Добродетели и всего один Порок. Но у уймищи людей, как у Синоли, Беати, Филиппа или дядюшки Жоля, – по две Добродетели и по два Порока. Дьявол норовит сменить наши Добродетели в Пороки, чтобы мы спускались к Унынию, а он смог сжечь наши души, иначе адово Пекло затухнет без неверующих в Бога душ, как без дров. Покудова, конечно, таковых душ у него хоть отбавляй – все безбожники из Сольтеля туда отправятся, но он всё равно от мериде́йцев не отстает. А если будешь веровать и сбережешь свои Добродетели, то душа после смерти вновь попадет в Рай: станет облаком или прибудется в вечной радости в Элизии, или даже станется Божьим светом. Знать бы, чего я такового наделала в прошлой жизни, что заслужила три Порока, – грустно проговорила Маргарита. – Нужно бы почащее бываться в храмах, чтобы не взращивать свое Уныние… Но как там бываться, когда тетка жадится даже на четвертак?! – горячо возмутилась девушка. – У нее-то, как и у Нинно, всего один Порок в кресте! Устала она, виделишь ли, радоваться на розовых островах небесного Элизия и возрождиться во плоти удумала. И теперь заявляет, что ее душу опять тудова возьмут, затем что она верует в Бога, верная мужу да неленивая, – все ее Добродетели при ней, и она может жадничаться, сколько хочет! Только о себе и думает! Сейчас восьмида Нестяжания! – обиженно выговаривала часам Маргарита. – Всю нынешнюю восьмиду надо удовлетво́ривать себя малым, питать ненависть к роскошам всяковым, подавать обездолённым и точно не бить простынью свою племянницу из-за десяти регнов в ее день нарожденья! Могла бы и простить мне эту простынью да не губить весь род людской! Но нееет! Из-за этаких вот жадин, как моя тетка, и тянет наша планета к себе луну, а я вот, когда выйду замуж, буду бываться в храмах и в благодаренья, и в медианы, – спасу мир, а после смерти тоже пойду в Элизий! Так и вижу, как тетка вытаращится, когда меня тама узрит!
Топнув ногой, девушка гневно выдохнула, посмотрела, куда указывала тонкая северная стрелка меридианского креста, и прочитала текущее время:
– Три часа и середина первой триады часу – время Кротости и борьбы с Гневом. Ну вот… – расстроено произнесла она и похлопала глазами – Из-за тетки я тоже нагневалась, нагрешила и наблизила Конец Свету…
Маргарита печально вздохнула, задумалась о том, вела ли она себя праведно в течение дня, и, решив, что за исключением несвоевременного гнева вполне справилась с трудной задачей быть меридианкой, опять повернулась к часам, поскольку в них имелась одна очень любопытная забава: вверху замка, за дверцами, жила принцесса, и она носила розовое платьице. Синоли рассказывал, что в полдень куколка, выезжая на балкончик замка, под звон колокола раздает воздушные поцелуи, а Маргарита еще ни разу не видела куколку, так как часы появились недавно. Добрый дядюшка почему-то тоже не пускал именно в полдень свою шаловливую племянницу в лавку.
– Свезло тебе, – сказала девушка часам. – Я б тоже хотела живать себе в замке. И к полудню пробуждаться тоже… Пусть даже это и порочно…
Маргарита еще с минуту постояла у часов, по очереди приложила один глаз ко всем нижним бойницам замка, попрыгала в попытке найти розовую затворницу, но затем сдалась. Она полюбовалась чудесным подарком на безымянном пальчике, а после решила, что не стоит мыть пол в такой красоте. Тогда, недолго думая, девушка сняла колечко и схоронила его на высоком балкончике принцессы.
Нехотя Маргарита подбрела к ведру, хорошо отжала тряпку и принялась за половицы. Задача ей выпала не из легких – тряпка должна была быть почти сухой, а пятен и грязи на полу хватало с избытком. «Может, если я всё отчищу, то тетка не нажалувается дяде Жолю про простынью, и я испробую все-все вкусные вкусности», – мечтала Маргарита. Но вскоре она заскучала.
– Монеты Орензы – это регны и рексы, – натирая тряпкой засохшее пятно, продолжила разговаривать Маргарита в пустой лавке. – Регны бывают маленькими – в один регн, медные или в серебру, а бываются большие монеты в десять регнов из одного серебра. Рексы же из золота, на них оттиск короля в короне. В нашем Лиисеме еще есть золотые альбальды и альдрианы – монеты с ликом наших герцогов. Все меры веса и деньги сродни мерам времени. Один регн весит восемнадцать ячменных зернышек; восемнадцать годов – это половина цикла лет и четверть века человека. Восьмида цикла лет – четыре с половиной года. Дядя сказывал, что раньше́е еще чеканили такие серебряные деньги: тоненькие и малюсенькие, с мой ноготок мизинца, – они весили ровно четыре ячменных зерна и половину, но уж жуть хлопотно былось ими торговать – и их сменяли на медную монету такового же весу, как и регн из серебру. Итак, самая мелкая монета – медный регн, каковой еще зовут «медяк» или «четвертак», ведь это четверть серебряного регна, хотя он весит столько же, а золотой весит четыре с половиной регна. Но тысяча серебряных регнов равна всего одной золотой монете, ведь золота в мире мало, а серебра мнооого больше́е… Самая великая мера весу, что я видала, – это талант, и он есть на рынке. Этот валун весит столько же, как и тридцать шесть тысяч регнов. Еще на рынке есть камень в половину таланту, есть камень в четвертину таланту, есть в осьмину таланту, есть в унцию таланту и есть гиря равная весу тысячи регнов. Такая и у дядюшки где-то есть… А еще у него есть гири весом в пятьсот регнов и в сотню регнов, а для аптечного товара дядя ложит на весы монеты. Белой солью тоже можно упло́тить – обычно ее продают по весу медяка, но бывает и дороже́е. Дядюшка говорит, что скупать соль по медяку выгодно, но тетка ругается, когда он так делает: говорит, что для хозяйства нам и грязная соль сгодится, а ждать, покудова опять подымется цена на белую соль, долго… Чего еще я знаю? – развлекала себя девушка, лениво протирая пол. – В кружке, в какой пиво продают за медный четвертак, в ней вод на десять чарок, в чаше воды на полкружки, а в чашке – половина чаши или четверть кружки. В винной амфоре – тридцать шесть бутылей, в бутыли же – три чашки, в бокале – две чарки, в кубку – восемь чарок, а в кратере, что тот же кубок, только большой, тридцать шесть чарок. На службах в храмах на алтарь ложат не чаши, скорее три кратера: с вином, с пилулами и для пожертвуваний… Дядя говорит, что знать пьет из кратера, передавая его по кругу, затем что аристократы боятся отравлений. Еще он говорит, что кроме кубкового кратера есть и иные – огроменные, в каковых богачи разводят вино с водою, бросают фиалковые, лавандовые или розовые лепестки, приправляют туда сахеру, а порой и перцу, и анису, и шафрану, и мускату, и кардамону, и можжевелых ягодов. У аристократов во всякой пище и напитке не меньше́е двенадцати пряностей – вот как они богатые. Но мне бы и ихнее вино не понравилося, – уверенно заявила девушка, переползая к очередному пятну. – Жалко, дядя не знает, сколько в том огроменном кратере вместится вод. Раз он не знает, то и я… Зато я еще знаю, что в ведре – двенадцать кружек, в ушате – два ведра, в бочонке – три ведра, а в бочке – тридцать шесть ведер. В самой большой из бочек, в тунне, – тысяча кружек воды. А еще тунной зовут вес на тысячу тысяч регнов…