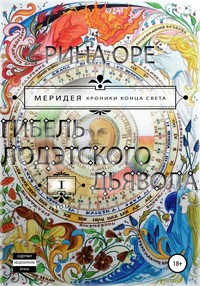
Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том
На улице вовсю разгоралось весеннее, жаркое солнце Лиисема, и вскоре девушка упарилась от духоты: не развязывая тесемок под подбородком, она скинула чепец на плечи, выправила косу и утерла рукавом лоб. Выжимая тряпку, она слышала, как открылась дверь и кто-то уверенно вошел в лавку, но не обернулась. Думая, что это Синоли, Маргарита сердито сказала:
– Воротился! Я уж назаждалася тута тебя…
– Не ожидал, что ты по мне скучала, блохоловка… – услышала она отдаленно знакомый, с ноткой ехидцы голос.
Посреди лавки стоял ее повзрослевший сужэн Оливи. Он по-прежнему одевался модно, в безупречно чистую одежду. Длинные рукава его верхнего камзола и конец капюшона висели сосульками с узлами на концах, голову покрывала маленькая шляпка с остроконечной тульей, ноги обтягивали двухцветные штаны, а поверх тонких сапог с длиннющими носами-иглами он еще носил сандалии на деревянной платформе, чей стук девушка приняла за топот грубых башмаков Синоли. Русые волосы Оливи, чуть более темные, чем у братьев Маргариты, плавно удлинялись ото лба к плечам; справа их кончики лихо завивались наружу, слева – внутрь. Гладкие щеки молодого щеголя сообщали, что по дороге к родному дому он не преминул зайти к цирюльнику.
За шесть с половиной лет, что Маргарита не видела своего сужэна, сын невысокого Жоля Ботно и его маленькой супруги, так вымахал, что опередил даже Синоли. Правда, Оливи сильно поправился, хотя до отца ему было еще очень далеко. В свои двадцать лет он стал холеным молодым мужчиной, несколько изнеженным и рыхловатым, радовал глаз здоровым цветом лица, и в то же время казалось, что он выпил излишне много воды. Небольшой животик выдавался над его дорогим поясом из кожи, латунных блях и изысканного проволочного плетения. В ушах столичного модника, в центре его мягких мочек, приютились маленькие сапфиры.
Оливи Ботно быстро огляделся, равнодушно скользнув взором по замку-часам, после чего его карие глаза остановились на юной красавице и помутнели, будто заплыли маслом. Ей же не понравился этот взгляд. Сужэн сразу показался Маргарите противным, несмотря на добрые черты его лица: Оливи унаследовал от матери широкий рот и нос с мясистой «луковицей» на кончике, во всем остальном он поразительно напоминал Жоля Ботно.
– Тоскаааа… – протянул Оливи, опуская с плеча большую дорожную сумку. – Ничего здесь не изменилось… А вот ты, Грити, сильно переменилась, – подошел он к Маргарите, застывшей на коленях с тряпкой в руках. – Ну-ка, встань-ка, дай тебя рассмотреть.
Маргарита похлопала глазами, отползла назад, вскочила на ноги и, ничего не отвечая, бросилась через боковую дверь в кухню, оттуда – в обеденную, из нее – в гостиную. Тетка Клементина, щурясь в мужнины круглые очочки, водруженные на ее носу у «луковицы», старалась починить простыню. То, что хитрый процесс полностью ее поглотил, говорил кончик языка, торчавший в уголке приоткрытого рта.
– Тетя Клемтина, теть Клемтин! – выпалила Маргарита, нечаянно взмахнув мокрой тряпкой. – Оливи тута!
Крупная капля щелкнула тетку по носу, и та захлопнула рот, прикусив язык, но лишь слегка скривилась. Она не стала кричать на Маргариту – небрежно отшвырнула рукоделие и, подбирая ноги, резво побежала навстречу любимому сыну, который уже шел к ней, раскрывая объятия.
Маргариту немедленно отправили купить курочку – и теперь уже она бежала к храму Благодарения, на рынок, пока тот не закрылся, после чего она одна в кухне ощипывала тушку, радуясь, что птичник хоть голову курице свернул. В это самое время Клементина Ботно, Синоли и Филипп, расположившись в обеденной, «разминали желудки» цветочным заваром с медом и слушали рассказы Оливи о чудесном Бренноданне. Маргарита, когда уставала вращать вертел с курицей, подходила к приоткрытой двери между кухней и обеденной – тоже слушала через щелку занятные истории сужэна. По словам этого помощника нотариуса, он с избытком познал блистательную столичную жизнь, среди знати, рыцарей и неописуемой красоты содержанок, влиятельных как советники короля и столь же уважаемых в свете, как и замужние дамы.
«Странно, – думала Маргарита о рассказах Оливи, пока поворачивала вертел перед огнем очага и вдыхала одуряющий аромат жарившейся птицы, – мне Бренноданн помнится иным: темным и мрачным. Наверное, это затем что я хорошо помню Портовый город и Хлебный. Оливи же наверняка живал себе в Белом городе или даже в Золотом, вместе с аристократами. Батюшка говорил, что столица Орензы, как продувной трактирщик, поит медами лишь тех, у кого водятся деньжата, а бедноту потчует дрянью и жиреет с нашенского обману».
Тетка, в свою очередь, рассказала сыну, что к их соседу, косторезу, пока тот пил у Мамаши Агны, в дом залез «проходимец» из того же постоялого двора, надругался над его дочкой и после исчез из города. Кто он и откуда был, никто не знал. Так что тетка Клементина радовалась, что в доме появился еще один мужчина, а то ей было страшно. Еще тетка добавила, что «эта Гелни», дочка костореза, сама была виновата в своем позоре, поскольку по благодареньям не носила чепчика, и что ныне ее никто не возьмет замуж. Подслушивавшая у двери Маргарита не поняла, какой позор имела в виду тетка, но решила, что теперь уж точно никогда не выйдет на улицу без чепчика, раз даже забравшийся в дом проходимец ругается и негодует так сильно, что и замуж потом можно не выйти.
«Хорошо, что у меня есть мой добрый дядюшка, – вернулась к очагу Маргарита и начала крутить вертел за ручку. – На радостях, что Конец Света нас миновал, он купил мне после Великого Возрождения на ярмарке красного отрезу, какового как раз хватило на чепчик. Я этот чепчик берегу. Я еще ни разу его не надевала, ведь красный – это жуть дорогой цвет, но для герцога Альдриана Красивого я его надену. Конечно, если меня пустят на казни. А потом и по благодареньям его носить будуся…»
________________
Клементина Ботно считала, что ее супруг избаловал Маргариту, быстро прощая ее – свою любимую дочку (оттудова все пакостя́ и бедствия!), поэтому тетка воспитывала племянницу в двойной строгости, ничего не спуская ей с рук. Так что наказание Маргариты к обеду не закончилось – за прятки на чердаке ей пришлось одной кушать в кухне, зато от запеченного яства она получила крылышко: тетка великодушно обделила себя угощением, а Оливи съел курицу за себя, за мать и за отца, вероятно, позабыв о том, что хорошим мясом его семья питалась по благодареньям и празднествам, довольствуясь в будни колбасами, говяжьими хвостами или даже козлятиной.
«Дядюшку – вот кого надобно сожалеть, – утешала себя девушка. – Ему мяса вовсе не осталось. Тетка ему заявит: "Кто ходит обедовать последним – тому кости". И он кричать, наверное, будет… Лишь бы не плакал!»
Жоль Ботно получил сухой и горячий гумор, но на стыке с влажностью и не в высшей точке горячести, то есть у него имелось два гуморальных сока – желчь и кровь. Желчи всё же было больше, да и Луна наградила Жоля Ботно не только порочной склонностью к Чревообъядению, но и к Гневу. Беззлобный и веселый нрав подарило ему рождение в седьмом месяце Вакха, по той же причине он имел тягу к выпивке и загулам. Таким образом, добряк дядюшка Жоль мог то ярко краснеть от возмущения, то взрываться от гнева, то спьяну ронять слезы, – вот Маргарита и переживала, как он воспримет то, что ему на обед достались кости. Она была бы рада до его возвращения отмыть поддон, куда капал ценный куриный жир, но тетка отправила ее убрать спальню Оливи, да «всё тама наблестеть, а не вилять от лени, как завсегда».
Дядя Жоль и дед Гибих, пьяные, развеселые и шумные, явились аж после начала первого часа, нарушая закон Элладанна «О запрете блужданий в будни с полуночи и до утреннего колокола». Заехав на задний дворик, разгружать тележку-двуколку они не стали – лишь распрягли старую кобылу пегой масти, и дед Гибих, налив кляче воды да накидав ей свежего сена, полез спать на сеновал.
Этот дед не имел никакого родства с семьей Ботно. Никто не знал, сколько ему было лет и чем он занимался до того, как необъяснимым образом поселился во дворе их дома. Маргарита помнила, что лет пять назад дядя привел его из трактира Мамаши Агны и уложил ночевать на сеновале. Больше дед Гибих не уходил. Он стал выполнять нехитрую работу: колол дрова и ухаживал за пегой лошадью Звездочкой, а также заменял собой сторожевых собак, которых тетка Клементина не терпела, считая, что от них только блохи, грязь, излишние траты да бесстыдство. Деда Гибиха она, правда, тоже терпеть не могла, но боялась с ним ругаться.
И зимой и летом дед появлялся в одной и той же одежде: в безрукавке из грязной овечьей шкуры поверх засаленной деревенской рубахи и в вонючих кожаных чулках с грубыми швами по центру ног. Один из швов разошелся на коленке, а дед Гибих так и ходил. За его поясом всегда торчал топор. Зато волосы старик держал в опрятности и заплетал их в тонкую косичку; свою гордость – белоснежную бороду, доходившую ему до внушительного плотного живота, дед расчесывал каждый час. Высокий и по ширине равный дяде Жолю, но сильный как бык, дед Гибих вызывал у Маргариты смесь страха и симпатии. Он мог наговорить грубых и обидных шуток, а мог прийти на выручку, например: отжать досуха «проклятые простыньи». Единственный, кто души не чаял в деде Гибихе, – это был, конечно, дядя Жоль. Дед Гибих никогда не отказывался от выпивки, и под мухой они становились отличной компанией. Дядя Жоль, пьянея, еще сильнее добрел, но его тянуло буянить: петь песни, заигрывать с красивыми и некрасивыми торговками или задирать молодых парней. Вот тут и пригождался дед Гибих. С крепким стариком, таскавшим за поясом топор, мало кто желал лезть в драку.
Пока его добрый друг кряхтел на сеновале, дядя Жоль выпил колодезной воды прямо из деревянного ведра и, напевая под нос, направился к пристройке, прозванной в семье беседкой, хотя она больше походила на широкое и длинное крыльцо под навесом, огороженное сетчатой шпалерой для виноградной лозы. Едва Жоль Ботно открыл дверь в дом, как сразу натолкнулся на жену, уткнувшую кулаки в бока, поджавшую губы и гневно уставившуюся на мужа.
– Чего так раное?! Чего ж не поутру явился?! – закричала она, когда тот полез целоваться: Жоль Ботно всегда так делал, и шумное неистовство его супруги обычно сменялось тихим ворчанием.
– Клементиночка, душа моя, уймись, – ласково сказал дядя Жоль. – Цельный день на жарище… Ну выпили там… кхм… спустеееньку. А слухи экие в городу, ох! Не знаешь, во что вериться… Вот, выя́снивали… Да всё пустое – и слава Богу! Ну чего ты? Полно срамиться… Иди ко мне…
Он попытался ее обнять, но тетка Клементина вырвалась и снова закричала:
– Скока щас временей, знаешь?! Полуночь уж твои часы нагремели, чтоб им треснуть! Трезвону по цельного дому! В узилище он еще не годил? Под суд захотел?! Я тута истёрзалася вся, а он слухи по пивнушкам выя́снивает! Небось не без девок яснял! Всё своё житьё я верною женою ему тружуся! Как в четырнадцать у того храму совстречала, – ткнула она пальцем в стену, – так всё для него: стирываю, стряпаю, дом в порядку держу! А он мне: то дурацкую лавку, то племянников, то старого пьяницу приволок. Оливи когда в Универсет отбылся, ты мне чего обещивал? «Вот примет сынок науки, и в Бренноданн тож поезжаем! И в Реонданн, и в Ориф, и в Идэ́рданн с Марти́нданном! Напоживаем для себя». Напоживали! Давай, Клементина, корми и разодевай тута всех, не пойми на что…
Дядя Жоль, не дослушав жену, завалился в дом и сразу отправился в кухню, где обнаружил Маргариту, оттиравшую золой поддон от куриного жира.
– Дочка! – растекся он в улыбке и обнял племянницу так крепко, что она чуть не задохнулась. – Невестушкой моя дочка, моя красавица, сталась! – расцеловал толстяк Маргариту в обе щеки, обдав ее перегаром, отчего она снова потеряла дыхание. – А чего эт ты тута начищашь? Никак курочка или даж кролик сегодню к обеду поспелися?! Тащи сюдова мясцо немедля, а то я щас тебя как заглочу!
– Прости, дядюшка, но мясу нету. Только вчерашняя чепуха, – извиняясь, словно это она сама все съела, тихо ответила Маргарита.
– Так! – гневно изрек дядя Жоль, отпуская племянницу. – Чего поделовать-то? Тащи то, чего есть… В лавке хоть душу отвела?
Маргарита снова виновато улыбнулась и помотала головой, а дядя Жоль сорвал с головы синий колпак, смял его и загремел на весь дом:
– Клементина!!!
– Чего тебе? – показалась его жена, уже спокойная и не расположенная к ругани. – Не буянь, Жоль, соседей побудишь. Чего опять стряслося?
– Я ж сказал тебе: пущи племяшу в лавку! У девчонки празднество, а она сызнова твои горшки всё тирает!
– Да не ори ты. Я токо хотелась так сделать, как явилась Агна. Грити ей простынью спортила, и пришлось упло́тить десять регнов! Затем я ей сказала, чтоб полов там натерла. Ну вот, думаю, что после и дозволю ей сластёв набрать. Да тут событьё, дорогой, – расчувствовалась Клементина Ботно, и ее темные глаза увлажнились. – Событьё таковое, дорогой мой!
– О, авось твое событьё и впрямь стоит того, что для меня в моем же дому нету мясу! – грохотал дядя Жоль. – Для меня! Мужа!! Мужчины!!!
– Дорогой мой, ну тихо ты. Наш сыночек, наш малютка Оливи! Он воротился! Может статься, даже насовсем. Уж верно надолгое!
– Приветствую, папа! – послышался за спиной дяди Жоля голос.
Готовый к объятиям Оливи раздвинул руки и шагнул к отцу, но осекся под его тяжелым взглядом, остановился и нервно дернул губами.
– Присадись! – строго приказал дядя Жоль, оглядывая броскую одежду сына. – Присадись и сказывай: чего стряслося. Проигрался в карты? Кости? Обворовал хозяина и побёг? Иль чё хуже́е? Выкладывай!
Чтобы не испачкать тунику, дядя Жоль, принимаясь за еду, низко наклонил голову над миской с чепухой – густой похлебкой, а Оливи сел напротив него за кухонный стол. Тетка Клементина устроилась рядом – от переполнявшей ее любви, она порой поглаживала сыну плечо. Маргарита притихла в углу кухни, позади своего сужэна, стараясь бесшумно отчищать поддон.
– Да ничего со мною не «стряслося», пап, – мягким голосом язвил Оливи. – Это нотариус, у которого я работал, «побёг» из города, едва услышав, что Лодэтский Дьявол захватил Реонданн и пойдет вверх по реке. Другие тоже разбегаются из Бренноданна кто куда. Даже пешком уходят, бросают в городе всё добро, лишь бы оказаться подальше от Лани. Вот я и здесь…
– Значит, всё ж таки правда… – задумался дядя Жоль и тут же изрек: – Чепуха! Не взять им нашу столицу! Ладикэйцы уж разок поскололи зубы о стены́ Бренноданна. Я мальчонкой шести годов былся, а помню это: и как осадили Бренноданн, и как пущали камней в стены́ Хлебного и Портового городов, – да всё зря! И как поспело войско с югов, и как тогда подня́ли пехотинцы Альбальда Бесстрашного ладикэйских рыцарёв на копья. Вот и щас у них ничто не выйдет, каковых бы дьявулов они не наня́ли. Складет Ивар Шепелявый остаток зубов у стена́х нашей столицы. Даст Бог, и голову свою там рядом с Лодэтским Дьявулом складет. А что экие храбрецы, как ты, сынок, разбёглись, – эт ничё. Горожане Бренноданна и без вас выставят против ихних сотню тысячей мужчин! Иль даже больше́е… Нет! – убежденно тряхнул он ложкой. – Не взять! Чепуха!
– Пааап… – раздраженно поморщился Оливи. – Ты будто в позапрошлом цикле лет застрял – всё теперь в Меридее поменялось. Больше не воюют копьями и стрелами, как тридцать шесть лет назад. Войско Лодэтского Дьявола имеет много ружей, разные пушки и другие пороховые орудия, но главное: они прямо с кораблей, от самого горизонта, пускают какие-то громовые бочонки и рушат ими стены городов. И для этих бочонков не нужны пушки, только катапульты с тетивой, поэтому они не ждут часа, пока остынет ствол, чтобы вновь выстрелить. Бочонок этот, как говорили, весь объят огнем, летит с ужасным свистом, а спереди имеет стрелу – когда она вкалывается куда-то, то случается взрыв, равный в своей силе удару ядра из стенобитной пушки, а то и мощнее! Из бочонка же разлетаются камни и железный сор – так лодэтчане уничтожают сразу множество людей, другие испуганно бегут… В Реонданне тоже не верили, что город будет взят. Лодэтский Дьявол дал им время в три дня, чтобы сдаться, после начался настоящий Ад – так рассказывали все, кто уцелел и бежал. Эти варвары, лодэтчане, сначала уничтожили корабли нашего короля Эллы в морском сражении, затем пустили огонь на крепостные стены – и уже к закату смогли обрушить их. В дыму, словно черти, они появились в Реонданне и шли по еще живым, истекающим кровью защитникам города. Если Бренноданн не сдастся, то и с ним будет то же самое: его разграбят, убьют всех мужчин и даже мальчиков, надругаются над женщинами и пойдут дальше – вверх по Лани! Наверно, и досюда доберутся!
По спине Маргариты от этих слов пробежали мурашки. Она перестала тереть поддон и испуганно посмотрела на дядю. Тот теребил свою округлую бородку и, казалось, тоже был напуган рассказом сына. Все молчали – тогда девушка решилась спросить:
– А кто это? Лодэтский Дьявол… Человек ведь, да? Иль демон?
Оливи развернулся к ней и посмотрел как на полную дуру.
– Это герцог из Лодэнии. Слышала о такой стране?
Маргарита отрицательно мотнула головой. Оливи усмехнулся и стал терпеливо ей объяснять:
– Лодэния – это королевство на самом севере, даже севернее Аттардии, состоит из полуострова Тидия, больших островов Мора́мны и Орзе́нии, и еще из множества островов поменьше. Морамна и Орзения – огромные. Оба острова по отдельности такие же, как наша Оренза, но только на четверти Орзении можно жить, остальная часть этого острова лежит за Линией Льда. Самый восточный остров Лодэнии – это Дёфёрс, – там тоже никто не живет, но не из-за холода – этот остров отделяет Лодэнию и весь наш меридианский мир от земель северных варваров. Нигде мы так близко не граничим с Варва́рией, как в этом месте Лодэнии. Сами лодэтчане тоже еще наполовину варвары, дикари и язычники, так как приняли веру всего три цикла лет назад. Говорят, что они даже тела усопших не всегда предают огню, а просто зарывают их в землю, и всё! С Меридеей соединен лишь один полуостров, и то узеньким перешейком, – это полуостров Тидия, где вотчина Лодэтского Дьявола, поэтому лодэтчане, хоть и зовут себя меридейцами, на самом деле живут на островах, а не в Меридее. Соседствует Лодэния только с королевствами Ладикэ́ и Бронта́ей, – как раз у того скалистого перешейка. Других соседей у Лодэнии нет. Сирмо́зское море разделяет Лодэнию и Бронтаю, Банэ́йское море разделяет Тидию и остров в форме кита-убийцы, Аттардию. На северо-востоке Лодэнии – великое море, заключенное как в чашу островами Лодэнии и берегом Северной Варварии. Это море, вернее, океан так и называют – Малая Чаша. Несмотря на то, что большая часть этого океана за Линией Льда, Малая Чаша, вопреки законам природы, не замерзает. По Малой Чаше не плавают и айсберги, как по Банэйскому морю. Долго мог бы говорить… Про Водоворот Трех Ветров у пролива Пера́, например… Если кратко, я хотел сказать, что Лодэния это одно из самых защищенных природой королевств: этот край оберегают горы, водовороты и даже Линия Льда, – поэтому Священная война там никогда не велась и к ним так поздно пришла вера, а сами лодэтчане отстали и в культуре, и в искусствах, и в науках от других королевств Меридеи. Только воевать они и умеют.
Маргарита, восхищенная глубиной познаний Оливи, приоткрыла рот, а тот, глядя на красавицу, продолжил говорить с усмешкой и гордостью в голосе:
– А теперь ближе к тому, о ком ты спрашивала. В двадцать шестом году Бронтая начала войну с Лодэнией, дабы отхватить юг Тидии, графство Ормдц – тот самый узкий перешеек, потому что у Бронтаи нет прямого выхода к Фойискому и Банэйскому морям. Их корабли идут к нам через воды Лодэнии, порой очень опасные, особенно из-за Водоворота Трех Ветров, полного бурь, а его никак не миновать. Получив узкий перешеек, они бы прорыли там канал, отделили бы полуостров Тидия от Меридеи, и их торговые суда коротким да безопасным путем ходили бы круглый год прямо к острову У́тта, что меж Ладикэ и Аттардией. Бронтая стала бы еще могущественнее и оспорила бы первенство самой сверхдержавы Санделии. Годом ранее Рагнер Раннор отправился воевать как наемник на остров Бальтин и даже не подумал защищать земли своего рода. Война Лодэнии и Бронтаи с зимними перемириями, победами и отступлениями затянулась на шесть лет, вот только война пила соки из Лодэнии, а Бронтая развивалась: оружейники Бронтаи сделали лучшие бронзовые пушки в Меридее и даже придумали ружья без фитиля. Я тогда в Университете учился, и там никто из магистров не сомневался в победе Бронтаи, но Лодэтскому Дьяволу стало некого убивать на Бальтине, и он вернулся домой. И двигало им не благородное желание защитить земли своего рода – иначе он вступил бы в войну раньше, а не спустя шесть лет, – он хотел крови, и всё. Поэтому, наплевав на зимнее перемирие, преступно воевал в восьмиды Любви и Веры. Магистры знаний нам говорили, что отсталый Бальтин это не Бронтая и что варвар будет посрамлен, однако бронтаянцы сдались уже через год – когда Лодэтский Дьявол вышел к Ли́мму и намеревался палить его… Лимм – это такой же город, как наш Реонданн, на реке Фло, а та река ведет через канал к столице Бронтаи, к Номму. Победил же Лодэтский Дьявол, так как всё сжигал на своем пути: сколько бы войск или кораблей против него не бросали, он их уничтожал издалека, откуда до лодэтчан не доставали даже пушечные ядра. В бронтаянцев летели и огненные шары, и огненные стрелы, и эти громовые бочонки, а падая, взрывались даже в воде, и никто не знает, как такое возможно.
– Боже, Оливи, откудова ты всё это знаешь? – изумленно прошептала Маргарита.
Чрезвычайно довольный собой, ее сужэн, закинув нога на ногу и опираясь одним локтем о стол, вальяжно развалился на табурете.
– Есть такие науки, как География и История, Грити, – снисходительно ответил он.
– Какие же занятные науки… – вздохнула девушка и добавила: – Так чего там про Лодэтского Дьявола? Демон он иль человек?
– Ну… я точно не знаю, но вот в Бренноданне говорили, что он человек, однако в юности отправился на Священную войну в Сольтель – и там этот лодэтчанин угодил в плен к безбожникам. Всех остальных пленных умертвили изуверским способом – посажением на кол, а его спас Дьявол, которому нравятся горячие и безбожные земли Сольтеля. Вот так этот лодэтчанин сохранил жизнь, но потерял душу: стал таким же жестоким, как кровожадные безбожники, перестал молиться и веровать в Бога. Спустя год он вышел из песков к нашей крепости у края пустыни, появился со стороны Линии Огня, вернулся из ниоткуда, поскольку, кроме песка, в той стороне ничего и нет. Говорили, – зловеще произнес Оливи, – когда он подходил к крепости, над ним летал стервятник – так он его поймал, прокусил живой птице шею и выпил всю ее кровь, чтобы утолить свою неимоверную жажду… жажду крови!
Маргарита побледнела и нарисовала большим пальцем крестик на груди.
– Еще в Бренноданне говорили, что тайну, как воспламенить порох в воде, он тогда же и узнал от Дьявола за Линией Огня, – продолжал Оливи. – Но священник мне сказал, что хоть тайна огня в воде, бесспорно, добыта из самого Ада путем колдовства, за Линией Огня никто не может побывать: плоть человека спечется и снаружи, и изнутри, едва тот приблизится к ней, да и нет ничего за Линией Огня, как гласит вера, кроме выжженной шапки земли. Скорее всего, безбожники сохранили этому лодэтчанину жизнь, затем он сбежал или его отпустили. Он заблудился – вот и зашел в пустыню, где едва не помер. В стервятника я тоже не верю, но что именно в плену он узнал хитрость, позволившую создать громовые бочонки, – в этом сомнений нет. После возвращения из плена этот лодэтчанин больше не пожелал распространять веру и спасать мир, сразу же покинул Сольтель, не отомстив за братьев по оружию. Набрав голытьбу и висельников себе в так называемое войско, он стал наемником у аттардиев и отправился на остров Бальтин, где убил всех мужчин и мальчиков, оставив жизнь лишь тем, у кого еще не прорезались до конца все молочные зубы и кто еще не получил души. А ведь бальтинцы были не безбожниками, а язычниками. Кто-то уже даже принял меридианскую веру, но он всё равно всех уничтожал без разбора – так алкал убивать и истязать. Аттардии, что шли следом и обустраивали новые поселения, боялись не нападения уцелевших бальтинцев, а того, как бы лодэтское чудовище их самих не казнило. Вот такой человек – хуже Дьявола. И теперь это жестокое чудовище напало на Орензу… А начал он с такого… В эту дерзость просто немыслимо поверить! Прямо в Главный Судный День перед Великим Возрождением он подвел корабли к Орифу, к столице Сиренгидии, и сказал, что с закатом начнет штурм, что прямо с кораблей взорвет город да устроит там Ад! И приказал метнуть к берегу бочонок – и поднялась волна в три роста человека! Легаты городов решили, что лучше сдаться, чем в Темнейшую Ночь гневить Бога, помогать Дьяволу и вызвать Конец Света для всех людей. И пока сиренгцы стояли на коленях, в том числе и воины, помогая Божьему Сыну молитвой, Рагнер Раннор со своими висельниками захватывал крепости. Проходя мимо молящихся, он смеялся, богохульничал и благодарил Бога за то, что тот создал людей дураками. Так все и было: во всей Меридее только он и его головорезы не стояли на коленях, не молились, но занимались разбоем в миг Великого Возрождения! Чудо, что светила разошлись, а его не испепелил Божий Огонь, впрочем, кары от Экклесии он всё равно дождется… Как после такого святотатства сомневаться в том, что этот лодэтчанин продал душу Дьяволу? Священники первыми покинули Бренноданн и вывезли все ценности из храмов, даже сатурномеры. Когда я спросил, почему они-то бегут, мне ответили: «Что стоит такому человеку разграбить святой дом, переплавить святыни или же их осквернить? Он не имеет ни почтения к Богу, ни страха перед ним, ведь его господином стал Дьявол!» Если священники боятся, представьте ужас мирян Бренноданна! С теми городами, что не сдадутся, Лодэтский Дьявол поступит как с Бронтаей или даже как с Бальтином: всё взорвет и убьет всех мужчин, кроме младенцев, а может быть, и их тоже. А всё потому… так в Бренноданне говорили… Это про то, что с ним случилось в плену у безбожников, – понизил голос Оливи, и его глаза, устремленные на Маргариту, слегка загорелись. – Говорят, что он ненавидит всех мужчин, потому что безбожники сохранили ему жизнь, но лишили мужского достоинства – его оскопили, – улыбнулся своей красивой сужэнне Оливи.