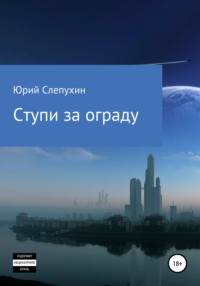
Ступи за ограду
Разумеется, любопытство это не настолько сильно, чтобы из-за него вставать с постели. Оно, пожалуй, скорее равнодушно – до такой степени равнодушно, что неизвестно даже, можно ли назвать это любопытством. Просто где-то в мозгу возникает вопрос, причем возникает чисто рефлекторно, вызванный определенными звуками, то что называется «внешним раздражителем». Потом снова приходит безразличие ко всему. Когда-то она очень любила собак. Собак, теннис, вообще многие вещи. Но что вспоминать прошлое! В прошлом было время, когда вся жизнь казалась ей интересной…
Оно – это прошлое – вообще уже как бы не существует, наглухо отделенное от нее стеною одного-единственного воспоминания, которое гасит все остальные, как молния гасит звезды. Вспоминать ей просто нельзя.
Сегодня светило солнце, и она опять подумала, что хорошо бы вылезти в окно и перевеситься через желоб, чтобы увидеть наконец «маршана» и его предполагаемую собаку. Потом крики и дребезжание колес внизу утихли, стало опять слышно, как под самым окном ходят по водостоку голуби, урча и дробно и деловито перестукивая по железу клювами. Рама окна, устроенная на горизонтальных петлях, как крышка ящика, была поднята на подпорку, за нею синело бледное небо Фландрии. «Как здесь свежо в середине лета, – подумала Беатрис, зябко натягивая на плечи простыню. – И они еще называют это жарой!»
День, кажется, обещал быть безветренным, но здесь наверху дул легкий утренний ветерок, пробираясь в окно и обвевая прохладой щеки. Ярко светило солнце, ворковали голуби. В такие утра можно иногда поверить на час-другой, что жизнь действительно хороша.
Беатрис попыталась задремать, но сон уже не шел. Вздохнув, она перевернулась на живот и прижалась щекой к подушке, одним глазом глядя в окно. В светло-синий прямоугольник неба наискось вбежала острая белоснежная стрела, с крошечной, едва различимой серебряной мушкой вместо наконечника. Самолет шел так высоко, что звука его не было слышно.
По-прежнему, словно тихий крупный дождь падал на крышу, стучали по водосточному желобу лапки и клювы голубей. Где-то внизу заиграло радио. «Нужно вставать», – подумала Беатрис с привычкой тоской. Впереди лежал долгий, ничем не заполненный день, и нужно было решить, что с ним делать. Впрочем, да! Вчера ведь она собиралась навестить Клариту Эйкенс, – может быть, у той есть какая-нибудь работа…
Мансарда состояла из двух комнат – вторая служила гостиной и спальней, а первая, куда открывалась дверь прямо с лестничной площадки, была приспособлена под кухню: там была раковина и из стены торчал газовый кран, соединенный со стоящей на полке маленькой плиткой. Тут же в углу, за повешенной на веревке мохнатой купальной простыней, стояла ванна – допотопное жестяное сооружение. Наполнять этого урода и потом вычерпывать воду обратно в раковину было очень хлопотно, и единственной хорошей стороной этого было то, что туалет в таких условиях отнимал массу времени – того самого времени, с которым она не знала что делать,
Беатрис вытащила ванну из угла, размотала резиновый шланг и, надев его на кран, пустила воду. Пока ванна наполнялась, она успела убрать в спальне. После купания позавтракала, оделась – на все это тоже понадобилось время. В двенадцатом часу она вышла из дому и медленно направилась к парку Сенкантнэр.
В Брюсселе она совсем отвыкла от городского транспорта. Времени ей всегда хватало, город, по сравнению с Буэнос-Айресом, был невелик – если не считать окраин, посещать которые Беатрис не любила, практически из любого района можно было добраться до центра, совершив приятную прогулку пешком.
По странной иронии судьбы, «отель разбитых сердец» со своим более чем богемным населением помещался в одном из самых респектабельных мест буржуазного Брюсселя, недалеко от Буа-де-ла-Камбр. Дом принадлежал какой-то старухе аристократке; года три назад владелица, живущая в провинции, из благотворительных побуждений отдала его для бездомных студентов. А потом – то ли управляющий там оказался очень уж снисходительным человеком, то ли вообще патронесса не давала на этот счет определенных указаний – постепенно в доме помимо студентов начали селиться люди совершенно посторонние.
Какие-то художники, непризнанный писатель, безработные журналисты, – в одной комнате иногда ночевал коммивояжер из Антверпена; в основном – за исключением торговца – дом был населен молодежью самых разнообразных и не всегда определенных занятий. «Отелем разбитых сердец» его прозвали уже давно.
«Разбитые сердца» из старожилов – было их человек двадцать – находились между собой в более или менее дружеских отношениях, хотя часто ссорились из-за любого пустяка. Когда рыжая Эйкенс, одна из первых обитательниц «отеля», выгнанная в позапрошлом году с медицинского факультета, однажды привела к себе в гости Беатрис, соседи приняли аргентинку как еще одно «разбитое сердце», проявленное ими гостеприимство ее даже испугало немного. «Пока не обзаведешься комнатой и прочим, – сказал ей какой-то бородатый парень, – можешь спать со мной. У меня матрас – настоящий «симмондс», видела рекламы? Не стану отрицать, что он куплен на Блошином рынке, но блох в нем нет». Беатрис так и не поняла, в шутку это говорилось или всерьез, во всяком случае, «разбитые сердца» не вызвали в ней большой симпатии.
Исключение там составляла сама Клер Эйкенс – Клара или Кларита, как называла ее Беатрис. С нею они почти подружились. Клер не была любопытной и никогда не пыталась узнать о своей новой приятельнице больше того, чем та считала нужным о себе рассказать.
Из-за двери, когда Беатрис постучала, отозвался мужской голос. Она вошла, секунду помедлив. Клер не было, вместо нее в комнате сидел поэт Жюльен – тот самый бородач, что предлагал ей когда-то свой матрас. Впрочем, позже оказалось, что черт не так страшен, как старается выглядеть.
– А, явилась невинная Додо, – сказал Жюльен, рассеянно глянув на нее и продолжая рыться в книгах. – Салют, старуха. Никогда бы не подумал, что Эйкенс может читать подобное дерьмо… Ты к ней? Садись, она скоро будет,
– Да нет, я, наверное, пойду, – нерешительно сказала Беатрис, стоя в дверях. – Просто хотела узнать…
– Насчет работы? Да ты заходи, садись! Что у тебя за идиотская манера держаться – точно все время ждешь, что тебя изнасилуют, и еще не решила, как быть.
– Придержите ваш проклятый язык, – холодно посоветовала Беатрис по-английски. Французским она еще не овладела настолько, чтобы на нем ругаться, кроме того, ей всегда казалось, что именно по-английски можно с наибольшим эффектом обругать человека, оставаясь в рамках приличий.
– Sorry, – примирительно отозвался Жюльен. Разговор перешел на английский. —Серьезно, Додо, в тебе ощущается глубокая неудовлетворенность…
Беатрис присела на подлокотник кресла, держа руки в карманах куртки. Обижаться было бессмысленно.
– Хочешь выкурить настоящую египетскую сигарету? —спросил Жюльен. – Чистый табак, без «травки»,
– Нет, спасибо…
Поэт с мечтательным видом поскреб в бороде. Одет он был в сандалии на босу ногу, синие, как и на Беатрис, джинсы и черный, несмотря на жару, шерстяной свитер.
– Слушай, Додо, – объявил он торжественно. – Ты пришла очень кстати, сегодня большой день…
– Да? – рассеянно откликнулась Беатрис. – Кто-нибудь угощает?
– Какие там угощенья, все сидят без сантима. Сегодня утром я закончил новую поэму! «Сублимация бессмертия», три с половиной тысячи стихов, а?
– Поздравляю, – сказала Беатрис. Она вспомнила вдруг, что, несмотря на почти четырехмесячное знакомство, еще не читала ни одной строчки, написанной Жюльеном. – Кстати, Жюльен, ты дай мне почитать что-нибудь свое, из опубликованного.
–Из опубликованного! – Жюльен фыркнул. – Кто я, по-твоему, такой, чтобы публиковать свои вещи? Я тебе не какой-нибудь слюнявый потаскун Клодель, чтобы писать стихи для развлечения буржуа!
– Ты, разумеется, не Клодель, – кивнула Беатрис. – Но какой смысл работать, если не имеешь намерения печататься? Кто будет читать?
– Во всяком случае, не ты, – высокомерно бросил Жюльен, закуривая бережно извлеченную из кармана помятую сигарету. – Не ты, не Клер и не те шлюхи, что каждый вечер прогуливают своих собачонок и своих любовников по авеню Луиз…
– Спасибо за… – Беатрис запнулась, подыскивая слово. – За параллель. Ты, как всегда, страшно любезен.
– А что до меня, то я никогда не гнался за дешевым успехом, – продолжал Жюльен. – С меня достаточно, если мои стихи поймут и оценят пятнадцать человек. А на остальное человечество мне наплевать! Я знаю, что гениален, и с меня этого достаточно!
Беатрис стало вдруг нестерпимо скучно и неуютно. Бедно обставленная комнатка Клары Эйкенс выходила окном на север, а Беатрис органически не переносила мест, лишенных солнца. Она поглубже забралась в кресло, поджав под себя ноги, и прикрыла глаза. Жюльен продолжал говорить что-то о поэтической школе неолеттристов, последователем которых являлся.
– Ты что, спишь? – спросил он вдруг, толкнув Беатрис.
Та отрицательно помотала головой.
– Плохое настроение? – продолжал он допытываться.
Беатрис пожала плечами и ничего не ответила.
– Ладно, я тебе почитаю из своего, раз уж ты просила, – сказал Жюльен. – Хочешь послушать «Плач Калипсо»?
Беатрис кивнула. Жюльен почесал бороду, кашлянул и начал читать нараспев:
Зилькар аволи лизар бедор
Туси килаф оризис капита,
Коли сто абизор сулик
Эсталли зсталли казук…
Невольно заинтересовавшись, Беатрис открыла глаза. Жюльен не сдержал довольной улыбки.
– Здорово, а? Впрочем, не стоило читать тебе такие грустные стихи, раз ты не в настроении. Вот послушай, эти веселее:
Малана ова калемо
Мостри нале тутф тутф,
Аиди нале нале
А! О! И! Пан пан!4
– На каком это языке? – спросила Беатрис, подняв брови.
– Ты просто маленькая идиотка, – снисходительно ответил Жюльен. – Я ведь тебе только что объяснил, что нам не нужно прибегать к помощи уже существующих языков, как это делают ублюдки-классицисты. Попутно замечу, что к ним я причисляю всех, от Ронсара до старой потаскухи Клоделя…
– Господи, да чем тебе досадил этот несчастный Клодель?
– Не мне, черт побери! Человечеству, поэзии – вот кому он досадил! Он и – я беру шире, гораздо шире – вся эта банда. Так о чем это я? А, да! Так вот, языки нам не нужны. Как показывает само слово «леттризм», мы ищем красоту и возможность самовыражения в совершенно новом и смелом сочетании букв. Если же…
Беатрис пожала плечами.
– Насчет самовыражения не знаю, но если вы действительно видите красоту в этих своих «тутф тутф»…
– А по-твоему, слюнявая жвачка этого мерзавца Валери красивее, да?! – яростно закричал Жюльен, вскакивая на ноги. – Что такое вообще красота?! «О кровля мирная, где голуби воркуют»5– это красиво, да?
– Что ж, это несомненно красиво, – сказала Беатрис. – И приятно. Я, например, очень люблю воркующих голубей. И мирные кровли тоже. Не понимаю, чем они тебя раздражают!
– Тем, что это ложь!! Нет больше никаких мирных кровель – понимаешь ты это или нет, или до вас в вашей Америке это еще не дошло?!
Жюльен вышел из комнаты, хлопнув дверью. Беатрис вздохнула и снова закрыла глаза.
Не нужно было приходить в этот дурацкий дом, подумала она. Всякий раз, когда сюда придешь, – обязательно неприятность. Или тебя обругают, или расскажут неприличный анекдот, или начнут при тебе ссориться и чуть ли не драться. Что за нелепая жизнь!
Минут через двадцать – Беатрис уже собиралась уходить – явилась наконец Клер, худощавая энергичная девица в веснушках, с огненно-рыжими волосами.
– О, добрый день, – сказала она, увидев забившуюся в кресло Беатрис. – Давно ждешь? Я не знала, что ты здесь, иначе вернулась бы раньше. До чего скверно жить без телефона… Сейчас я встретила этого болвана Грооте, моего бывшего профессора, и он…
Продолжая болтать скороговоркой, Клер выложила из сумки принесенные пакеты, пинком загнала под шкаф старую туфлю. Беатрис молча наблюдала за ней, не двигаясь с места.
– Что это ты сегодня такая молчаливая? – спросила наконец Клер, удивленно глядя на подругу.
Беатрис пожала плечами.
– А вообще я люблю поговорить?
– Нет, но сегодня ты молчишь особенно. Что-нибудь случилось?
– Господи, что может со мной случиться… – Вздохнув, Беатрис встала и отошла к окну. – Сейчас Жюльен читал мне свои стихи.
– Это что, «казук казук»? – Клер засмеялась. – Ну, из-за «казука» не стоит впадать в мрачность, Додо. Есть хочешь? Смотри, что я принесла!
Беатрис подошла к столу, расковыряла целлофановый мешочек с жареным картофелем и положила в рот несколько тонких ломтиков.
– Валяй, – сказала Клер, – видишь, я запаслась. У меня даже и пиво сегодня есть, после этого захочется. Вкусно?
– Да, мне нравится, – сказала Беатрис, вытирая платком кончики пальцев. – Но это вредно для печени. Впрочем, если у меня что-нибудь заболит, я прибегу к тебе. Ты ведь немножко медик?
– Вот именно, немножко. Я бы даже сказала – очень немножко!
Клер наспех убрала со стола, принесла бутылку пива, два пластмассовых стакана.
Подруги сидели – одна на колченогом стуле, другая на придвинутом к столу кресле – и руками ели еще горячий картофель, доставая его прямо из мешочков. Обе молчали.
– Клара, – спросила вдруг Беатрис, – почему ты ушла с факультета? Ты сама не хотела или пришлось?
– И то, и другое. В основном – первое.
– Как жаль. А почему ты не хотела изучать медицину? Я думаю, это очень хорошее занятие.
– Да, платят ничего, – согласилась Клер, выливая остаток пива в свой стакан. – Если иметь собственную практику, я хочу сказать.
– Ты не поняла… Я говорила не о заработке. Моральное удовлетворение, понимаешь? Что-то, за что зацепиться, ради чего жить… Мне трудно на отвлеченные темы, Клара, все-таки я еще французский так не знаю…
– Я тебя понимаю, не беспокойся. – Клер допила пиво и, скомкав пустой мешочек из-под картофеля, скатала хрустящий целлофан в комок и метко – через всю комнату – швырнула в открытое окно. – Конечно, медицина может стать хорошей зацепкой. Если верить в ее пользу, понимаешь? А я вот не верю.
Беатрис удивленно подняла брови:
– Но почему? Если медицина еще чего-то не умеет – ну, рак и всякие такие вещи, еще не открытые, – то ведь это – ну, как это? – вопрос времени, да? И потом, – она улыбнулась, – я вообще не верю людям, которые говорят: «Я не верю в медицину». Когда у них заболит живот – о, они так быстро бегут к врачу!
– Да вовсе я не про это. – Клара досадливо поморщилась. – Я не верю в медицину не в том смысле, что отрицаю ее способность спасать людей от смерти. Ты понимаешь – я вообще не особенно уверена в том, что их следует спасать. Для чего? Для войны? Для концлагерей? Моего брата ребенком едва спасли от менингита, а в сорок третьем году он погиб в Бреендонке. Ты только подумай – для чего он выжил? Чтобы успеть пройти перед смертью еще и через этот ад?
Клер достала сигареты и закурила. Беатрис молча смотрела в окно, где над торцовой стеной соседнего дома темнело и набухало, ширясь, серое дождевое облако. В комнате стало еще более сумрачно.
– Ну, чего молчишь? – с усмешкой спросила Клер. – Ты со мной не согласна?
– Пожалуйста, дай мне сигарету, – попросила Беатрис каким-то не своим, тонким голосом и кашлянула. Курила она не затягиваясь, неловко держа сигарету большим и указательным пальцами. Когда на сигарете образовался столбик пепла, она стряхнула его и принялась пальцем загонять в щели между рассохшимися досками столешницы.
– Я не знаю, Клара, – ответила она наконец. – Честно – не знаю. То, что ты сказала, – это абсолютно чудовищно. Но… Ты понимаешь, я возразить сейчас не могу ничего. Хотя знаю, что возражать нужно. Я сейчас подумала о себе – я была очень, очень больна год назад. О, я могла умереть! Меня врачи спасли, ты видишь сама, но я сейчас – вот перед своим сердцем – не знаю, могу ли я благодарить их за то, что осталась жить. Ты понимаешь, Клара, жизнь сама по себе может не иметь никакой ценности, если… Нет, я все равно не смогу объяснить. Почему ты не говоришь по-испански или
по-английски?
– Надо полагать, по той же причине, по какой ты не говоришь
по-фламандски. Ничего, теперь мы начинаем понимать друг друга… – Клер невесело усмехнулась. – Мы ведь, по существу, говорим одно и то же. Весь ужас в том, что у человека в наши дни может быть слишком много самых разнообразных причин, чтобы не так уж цепляться за жизнь. У всякого свое. Я, например, просто-напросто по горло сыта войной и не желаю видеть еще одну. Мне было семь лет, когда к нам пришли немцы и я осталась без детства. Понимаешь? Детства у меня не было. Была оккупация, был постоянный страх, постоянный голод, разговоры о предателях, о заложниках, о черном рынке. А сколько было подлости! Даже мы, дети, видели ее вот так – невооруженным глазом… А сколько подлости было потом – после освобождения! Когда самые жирные из коллабо покупали себе награды за участие в маки… Я в университете знала одну девчонку – с факультета этнографии, сейчас она, кстати, где-то в твоих краях, – так ее родитель всю войну торговал с бошами. Причем открыто, его весь Антверпен знал, этого Стеенховена. А сейчас он – герой Сопротивления!
– Возможно, он торговал – как это говорится – для камуфляжа?
– Какой там камуфляж, иди ты. Греб деньги лопатой, я тебе говорю! Мне-то это все известно, можно сказать, из первых рук – мы с Астрид дружили.
Беатрис подняла брови:
– Ты могла дружить с дочерью такого отвратительного человека?
– А она-то при чем? Ей было десять лет, когда кончилась война. А потом она из-за этого и расплевалась со своей семейкой – когда все сообразила. Бросила даже университет и умотала к вам.
– В Аргентину?
– Не знаю точно, последнее письмо было из Монтевидео.
– О, это совсем рядом…
– Так что, видишь… Такие, как ее папаша, благополучно выкрутились, а мелкую рыбешку в сорок пятом году расстреливали пачками – без суда и следствия…
– Совсем без суда?
– Ну как «совсем»… Формально суды были – полевые суды, по законам военного времени. Полчаса разбирательства – и к стенке. Иногда даже по анонимному доносу.
– Кларита, не нужно вспоминать о таких вещах.
– О них и не забудешь, Додо. Знаешь, детские впечатления остаются на всю жизнь. Ты счастливая – у тебя было хорошее детство, обыкновенное. С куклами, со сластями, с каруселями…
– Да, детство у меня было хорошее, – тихо отозвалась Беатрис.
Они опять замолчали. Начался дождь. По подоконнику снаружи мягко барабанили капли, в комнате запахло теплым летним ненастьем.
– Что у вас там сейчас делается? – спросила Клер.
– Где – у нас?
– В Аргентине. Я читала недавно, там была революция, какие-то беспорядки.
– Да, – кивнула Беатрис. – Было восстание. Как это называется… попытка переворота. Месяц назад. Некоторые мои знакомые там принимали участие…
– Ты бы, наверное, тоже принимала участие, если бы была сейчас там?
Беатрис улыбнулась и покачала головой:
– О нет. Зачем?
– Ты же говорила, у вас там какой-то диктатор. Он что, сукин сын?
– Да, и большой. Но мне до него нет никакого дела. До политики вообще, я хочу сказать.
Клер посмотрела на нее задумчиво, словно собираясь что-то возразить, но ничего не сказала. Беатрис, подперев кулачком подбородок, прищуренными глазами смотрела в окно, на дождь в неяркие пятна синевы между тучами. Что-то неуловимо надменное в линии профиля и длинные, не по моде, волосы в сочетании с мешковатой непромокаемой курткой придавали облику аргентинки некоторую театральность – так мог выглядеть паж на сцене.
– Черт, ты мне иногда напоминаешь орхидею, – сказала Клер.
Беатрис, не сразу оторвавшись взглядом от окна, рассеянно глянула на подругу:
– Напоминаю кого?
– Орхидею, понимаешь? Такой цветок. – Клер усмехнулась. – Ясно, почему тебе нет дела до политики. Впрочем, мне тоже плевать на нее в высочайшей степени. У тебя сейчас есть любовник, Додо?
Беатрис рассмеялась несколько принужденно.
– Кларита, это не очень здоровое любопытство!
– Помилуй, вполне естественное. Я почему спросила – вчера мы о тебе вспоминали в одной компании, там были Вермееры и Жюльен, и мадам Вермеер вдруг говорит – про тебя: «Воображаю, сколько у этой девочки любовников!» – а Жюльен сказал, что ты вообще обходишься без них. Вермеерша вытаращила глаза: «Как, разве и Додо лесбиянка?»
Беатрис покраснела и возмущенно фыркнула.
– Я так хохотала, чуть не лопнула, – продолжала, смеясь, Клер. – А потом вдруг подумала: а ведь, пожалуй, Жюльен прав, как это ни странно. Ты что, действительно спишь одна?
– Клара, мне не нравится этот разговор, пожалуйста, прекрати.
– Ждешь прекрасного принца? Не стоит, Додо, ни к кому они не приходят, поэтому лучше найди себе хорошего парня. Я тебя могу познакомить с кем хочешь, есть даже один студент конголезец, сын какого-то черного вождя из Руанда-Урунди. Не смейся, говорят, это шикарно – иметь любовника-негра. Ты не пробовала?
– Господи, хватит тебе, – с досадой сказала Беатрис. Встав из-за стола, она отошла к полке с книгами и стала перебирать томики в истрепанных бумажных обложках.
– Я говорю совершенно серьезно, – сказала Клер. – Ну, за исключением негра, это в шутку. А вообще любовник тебе нужен, Додо. Ты думаешь, я не понимаю, откуда вся эта меланхолия? Не нужно вести себя так, как эта дурища Сюзанн, которая в понедельник не помнит, с кем спала в субботу, но и изображать из себя святую…
– Клара, я прошу тебя прекратить!
– Ну ладно, ладно! Молчу. С тебя станется, что ты еще и в сводничестве меня обвинишь. Я ведь просто хотела тебе помочь. Скажи, Додо, у тебя была в прошлом несчастная любовь? Да? Я ведь вижу.
Беатрис положила книгу, которую только что взяла, и отошла от полки. Сняв с гвоздя старый студенческий картузик Клер, она принялась внимательно разглядывать амулеты и жетоны, которыми, по традиции Брюссельского университета, был сплошь облеплен бархатный околыш.
– Он что, бросил тебя? – снова спросила Клер, не дождавшись ответа на первый вопрос.
– Он умер, – медленно ответила наконец Беатрис. – Умер самой страшной смертью, какою может умереть человек…
– Я тебе сочувствую, – сказала Клер, помолчав. – Это было давно?
Беатрис пожала плечами, продолжая разглядывать амулеты.
– Не знаю… По календарю – давно. – Она повесила картузик на место и вернулась к столу. – Клара, я хотела узнать насчет работы…
– Верно, я ведь так и не договорила! Сегодня встретила профессора Грооте, он обещает несколько переводов на будущей неделе, три или четыре статьи. Но это пока только обещание, а вот у Вермееров есть возможность достать халтуру для кабаре – переводить мексиканские песенки. Я сразу подумала о тебе.
– Стихи? Но я их никогда не писала, – удивленно сказала Беатрис.
– Неважно, сделаешь подстрочник, а для обработки найдем поэта. Этот кретин Жюльен не захочет, а то можно было бы дать ему: он тоже сидит без денег. У тебя как сейчас?
– Хватит до конца недели, а потом я надеюсь получить новый чек. Если Жульену нужно, то я могу…
– Ни в коем случае! Жюльен ничего парень, но долгов он принципиально не отдает. Тебе присылают в долларах?
Беатрис улыбнулась.
– О, к сожалению, просто в песо. Иначе я жила бы в этом, как называется… Картье Леопольд! Удивительно, Кларита, я получаю чеки на «Итало-Бельж», и там мне каждый раз дают по ним меньше и меньше. Ты думаешь, обман?
– Ну, на такой мелкий банки не идут. Просто курс меняется, наверное. Инфляция, понимаешь?
– Здесь?
– Да нет же, у вас в Аргентине! Если бы падал наш франк, ты, наоборот, получала бы каждый раз больше. Похоже, Додо, что у вас там дело всерьез идет к революции…
Когда Беатрис вышла из «отеля», дождь уже кончился и переменчивая брюссельская погода словно торопилась наверстать упущенное. Стало припекать солнце, в аллее Камбрского леса было почти жарко и чудесно пахло мокрой зеленью и мокрой землей. Выйдя на авеню Луиз, Беатрис пешком прошла ее до самого конца. Перед гигантским порталом Дворца правосудия дети кормили голубей у мрачного памятника бельгийской пехоте. Дойдя до памятника Готфриду Бульонскому, Беатрис остановилась, решая, что делать дальше. Можно было закончить день в Музее изящных искусств, или просто пойти посидеть в сквере Пти-Саблон. Все это было близко, рукой подать. Она вспомнила вдруг, что и на Пти-Саблон тоже есть памятник – Эгмонту и Горну.
Слишком много памятников было вокруг нее, слишком много мертвецов – знаменитых и безымянных. Тоска овладела ею, еще больше усилившись от одной мысли о тихих пустых залах Королевского музея с дремлющими служителями…
Беатрис хорошо знала это состояние. Когда оно начиналось, не помогала ни толпа, ни шум; мысль о тишине пугала, но в то же время обычная уличная толчея доводила до грани истерики. Такие часы нужно было проводить только дома. Едва удерживаясь от слез, Беатрис остановила первое такси и поехала домой.

