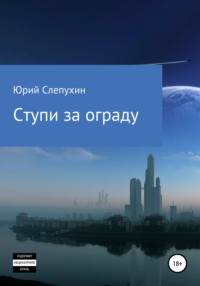
Ступи за ограду
Улица Фультона, где жила Беатрис, была обычно безлюдна, в какой бы час она ни возвращалась домой. На этот раз по тротуару прогуливался человек в светлом костюме, похожий на туриста; очевидно, это и был турист, потому что он именно прогуливался, – но что делать туристу в этой части города, вдали от церкви святой Гудулы и знаменитого закоулка, где стоит «Маннекен-Пис»?
Расплачиваясь с шофером, Беатрис зачем-то оглянулась на туриста, который, повернув на углу, подходил теперь к ее дому, и вдруг замерла, выпрямившись и прикусив губу.
– Мадмуазель, вы берете сдачу или вы ее не берете? – сердито окликнул ее таксист. Беатрис растерянно сунула деньги в карман. Ей захотелось вдруг крикнуть: «Подождите, я еду дальше!» – но такси уже скрылось за углом. Беатрис осталась совсем одна на пустынной улице, она и человек в светлом костюме, и это было как во сне, и она окаменело стояла на тротуаре, не сводя глаз с человека, который шел теперь к ней, ускоряя шаги.
Потом он остановился, словно не решаясь подойти ближе, и с какой-то потерянной улыбкой поправил квадратные очки без оправы. Беатрис отступила к своей двери.
– Фрэнк, – сказала она тихо. – Мистер Хартфилд, что вы здесь делаете?
3
– Зачем вы приехали? – снова спросила она. Продолжая улыбаться, теперь уже совсем почти глупо, Фрэнк сделала еще один неуверенный шаг, и вдруг лицо его сделалось серьезным.
– Добрый день, Трикси, – сказал он также тихо. – Как сегодня жарко, не правда ли?.. Я себе представлял бельгийский климат несколько иначе. Я, видите ли… Я здесь в командировке, точнее не здесь – во Франции, «Консодидэйтед» продала французам лицензию на одну из наших моделей, но они хотят внести изменения в конструкцию, и… Мы вот и прилетели, чтобы все согласовать. Модификацию они предлагают небольшую, но она может отразиться на некоторых параметрах…
Беатрис смотрела на него, все еще ничего не понимая и не особенно доверяя своим глазам. Хартфилд вынул платок и приложил ко лбу, потом повел шеей, точно воротничок вдруг стал ему тесен.
– А сюда я на один день, – продолжал он совершенно уже потерянным тоном, – французы предложили прервать наши работы, пока данные не будут обработаны вычислительным центром… Каких-нибудь два дня максимум, и я решил вот… навестить. Как поживаетете, Трикси?
– Благодарю вас. Вы… Страшно любезно с вашей стороны, Фрэнклин, но… Ну что ж, зайдемте ко мне…
Она отперла дверь, не оглядываясь вошла в дом и стала подниматься по скрипучей деревянной лестнице, пропахшей жавелевой водой и сельдереем. За спиной, внизу, она слышала осторожные каучуковые шаги Фрэнка Хартфилда. Вот черт, только этого не хватало!
На верхней площадке, пока Беатрис с закушенными губами дергала и вертела застрявший в замке ключ, он стоял в стороне, словно боясь к ней приблизиться.
– Дайте я попробую, – робко сказал он наконец.
– Нет… Здесь дело не в силе – нужно просто нащупать… Не зная, это не сделаешь, будь он прок…
Фрэнк деликатно кашлянул.
– Кстати, Трикси… Я не знал – если вы живете одна, то… может быть, мой визит не совсем…
– Будь он трижды проклят, – сказала Беатрис, выдернув поддавшийся наконец ключ и ударом ноги распахивая дверь. – Сколько раз собиралась позвать слесаря! Входите, Фрэнклин…
Они вошли в квартиру – Беатрис, сердитая и раскрасневшаяся от возни с замком, за нею Фрэнк, смущенно протирая очки. В мансарде, как обычно во второй половине дня, было довольно жарко. Беатрис сняла куртку и швырнула через комнату.
– Снимайте пиджак, если хотите, – сказала она, быстрым мальчишеским движением заправив в брюки выбившийся край блузки. – Здесь жарко. К сожалению, у меня нет холодильника, так что я ничем не могу вас угостить. Разве что кофе. Вы спрашиваете, как я живу? Вот, пожалуйста. – Она сделала быстрый круговой жест и спрятала руки за спину.
– Как мило, – сказал Фрэнк, окинув взглядом обстановку. Странная какая-то кровать, возможно просто пружинный матрас на чурках, ободранный шкаф прошлого века, книги в беспорядке – все слишком не вязалось с обликом той, что стояла посреди этого убожества на слегка расставленных ногах, заложив руки за спину и упрямо наклонив голову, и была похожа на… Трудно сказать, на кого именно. Какие у нее волосы – совсем темные, почти черные и почти прямые, с каких пор она стала носить их такими длинными? Два года назад у нее была прическа «лошадиный хвост»…
– Трикси, вы с ума сошли, вы же не можете жить в такой… такой проклятой дыре, – заговорил он вдруг. – Трикси, я просто не в состоянии понять, что заставляет…
– Простите, – сказала она очень ровным тоном, почти холодно. – Садитесь, пожалуйста. Можете снять пиджак, здесь жарко. У меня к вам просьба, Фрэнклин. Надеюсь, вы поймете. Не нужно называть меня «Трикси», хорошо?
Несколько секунд – может быть, их прошло всего две или три, но показалось больше, – Фрэнк смотрел на нее молча, как смотришь иногда на собеседника-иностранца, когда плохо знаешь язык и каждую фразу приходится переводить в уме, прежде чем поймешь ее смысл.
– О, конечно, – сказал он наконец. На скулах его проступили красные пятна. Он отошел от двери и, не снимая пиджака, опустился в кресло – смешную допотопную штуку в стиле «провансаль», составленную из точеных палочек и продавленных подушек в веселеньком, цветочками, кретоне. – Конечно, Дора Беатрис. Мне следовало самому догадаться…
Беатрис села на край постели, выпрямившись и держа руки на коленях; только спустя минуту, случайно опустив глаза, она увидела побелевшие суставы своих судорожно сплетенных пальцев и заставила себя их расцепить. Фрэнк молчал, так и не докончив фразу; Беатрис чувствовала, что нельзя дать ему заговорить, что она должна сейчас говорить сама – говорить без умолку, о чем угодно, лишь бы не дать заговорить ему! Но язык ей не повиновался, и в голове было совершенно пусто.
Что могла она сказать этому широкоплечему человеку по имени Фрэнклин Хартфилд, аккуратному, отутюженному и выбритому так, как только может быть выбрит и отутюжен преуспевающий молодой американец, любящий свою профессию, свою бейсбольную команду и свое «хобби»…
– Как вы узнали мой адрес? – спросила она, найдя наконец какую-то зацепку для разговора.
– О, вы, несомненно, рассердитесь, – сказал Фрэнк, – я, очевидно, не должен был этого делать… Я написал мистеру Альварадо… Кстати, он сейчас не в Байресе, но вы это, очевидно, знаете… – Фрэнк опять промокнул лоб платком. – Мистер Альварадо был так любезен, что сообщил мне ваш брюссельский адрес. Мне не следовало этого делать, Трик… Дора Беатрис… Но, вы понимаете… Я чувствовал, что должен вас повидать, потому что…
– О, ничего, пожалуйста! – Беатрис судорожно улыбнулась. – Где вы работаете во Франции, в самом Париже?
– Нет, нас загнали в Тулузу. Это на самом юге, знаете? Очень жарко, почти как у нас в
Нью-Мексико. Парни были страшно разочарованы – почему-то сначала все решили, что речь идет о Париже… Вы понимаете, это все делается по плану унификации вооружения в системе НАТО… Кое-что дают европейцы, мы вот на прошлой неделе видели испытания нового французского перехватчика… Возможно, он и будет принят на вооружение, там интересно решена силовая установка – две турбины и один жидкостный… Впрочем, вам это неинтересно. Расскажите лучше о себе, Дора Беатрис.
– О себе? – Лицо ее сразу приняло настороженное, почти враждебное выражение. – Сожалею, Фрэнклин, но мне нечего вам рассказать.
По существу, это была ясная и даже не особенно завуалированная вежливостью просьба не вмешиваться в ее жизнь и раз навсегда отстать с расспросами. Фрэнк так и понял. Он сидел в дурацком кресле из точеных палочек, смотрел на носки собственных ботинок и со стыдом и болью думал о том, что не нужно было выпрашивать у Делонга этот двухдневный отпуск, не нужно было лететь из Тулузы в Париж, а из Парижа сюда, и уж во всяком случае не нужно было подходить к ней, когда она вышла из такси. Он мог посмотреть издали и вернуться в аэропорт. Не нужно было с нею заговаривать. Чего он надеялся добиться? Она стала взрослее и, может быть, еще более красивой, хотя это трудно оказать. Может быть, просто волосы – черные и почти прямые. Ему такие всегда нравились. Именно такие – чуть волнистые. Так длинно сейчас никто не носит, по крайней мере у нас, дома…
– Вы повзрослели, Дора Беатрис, – сказал он упрямо, несмотря на все эти мысли, только что промелькнувшие в его голове. Он вообще был упрям. Очевидно, фамильное качество: капитан Джон Хартфилд тоже был упрям и погиб, в общем-то, именно из-за своего упрямства. По возрасту он уже мог не летать, но упрямо считал, что летать нужно, и летал до тех пор, пока его «крепость» не взорвалась над Швейнфуртом с полной бомбовой нагрузкой и девятью человеками экипажа.
– Вы стали совсем взрослой дамой, – сказал он упрямым голосом. – И выглядите очень хорошо.
– Вы находите? Не знаю.
– Скажите… А как у вас с вашим колледжем – то есть лицеем?
– С лицеем? – В голосе Беатрис прозвучало легкое удивление. Она пожала плечами: – Никак. А что?
– О, просто спросил. Вы его не окончили?
– Нет.
– И не думаете?
– Нет.
– Что вы вообще думаете делать, Дора Беатрис? Я имею в виду вообще, понимаете?
– Не знаю, Фрэнклин. Вообще – не знаю.
– Но ведь, Дора Беатрис… так жить нельзя!
– Можно, как видите. Сейчас я поставлю кофе, минутку…
Она вскочила и почти выбежала из комнаты. Фрэнк слышал, как вода из крана лилась в кофейник, как зашипел газ, как выдвигались какие-то ящики и шуршала бумага. Потом хлопнула дверь, и стало тихо. Фрэнклин сидел на трогаясь с места и думал о том, что приехал он сюда совершенно напрасно, но что приехать было нужно. И что он не уйдет из этой комнаты до тех пор, пока они не поговорят обо всем откровенно и до конца…
Кофейник вскипел. Фрэнк погасил плитку, подивившись ее странному виду, с опасением потрогал идущую от газового крана резиновую трубку и недоверчиво принюхался. Потом он огляделся, как оглядывался в другой комнате. Очевидно, это называется кухней? Да, холодильника нет. И вообще ничего нет. Черт возьми, когда эти европейцы научатся жить
по-человечески?..
Он уже начал тревожиться, когда вернулась Беатрис, прижимая к груди свертки.
– Вы погасили? Спасибо, я боялась, что вы не найдете кран. Я только сбегала в лавку – здесь недалеко, на улице Утонувших Детей… Честное слово, так и называется!
Фрэнк вернулся в свое кресло. Дверь оставалась открытой, Беатрис суетилась, заваривая кофе и разворачивая свои покупки.
– Правда, здесь чудесные названия улиц, – продолжала она говорить с тем же неестественным, лихорадочным оживлением в голосе. – Вы знаете, можно просто ходить и читать названия… В Икселле, где пруды, есть, например, улица Золотой Шпоры. И еще я видела улицу, которая называется Волчий Ров. Это в самом центре! Если забраться в старые кварталы, то там вообще есть все, что хотите: и улица Меча, и улица Зеркала, и даже улица Лисиц. Интересно, правда? Я считаю, что это куда лучше, чем у нас в Америке: или просто номера, или фамилии генералов, или места знаменитых сражений… Возьмите в Аргентине! Куда бы ты ни приехал – обязательно Сан-Мартин, обязательно Боливар, обязательно Кальяо… Ну, или еще названия деревьев. А здесь – улица Золотой Шпоры! Вы хотели бы жить на улице Золотой Шпоры, Фрэнк?
– Еще бы, – сказал он. – Хватит вам заниматься кухней, идите сюда.
– Иду! Сейчас мы выпьем кофе, я тоже немного проголодалась. Когда улетает ваш самолет?
– Утром, в девять с чем-то, но у меня еще нет билета.
– В каком отеле вы остановились?
Фрэнк засмеялся.
–Никак не мог договориться с водителем, он в конце концов плюнул и отвез меня чуть ли не в самый дорогой, не знаю уж, за кого он меня принял. Называется «Бедфорд», в самом центре. Там чертова куча англичан…
Беатрис, нервно суетясь, накрыла на стол, придвинув его к своему странному ложу. Фрэнк только сейчас заметил, что в комнате нет второго стула. «Поменяемся местами», – предложил он, когда Беатрис пригласила его подсаживаться и сама забралась на постель, подмостив что-то под себя. Она отказалась, и он смутился, задним числом сообразив допущенную бестактность.
Весь его план приехать сюда был, в общем, одной большущей бестактностью, но эта маленькая, незначительная, совсем его убила. Он молча съел что-то, предложенное Беатрис, и выпил кофе. Беатрис тоже молчала. Положение начинало становиться непереносимым своею бессмысленной напряженностью, именно бессмысленной, потому что оба прекрасно понимали, что никакого выхода, никакого решения, ради которого стоило бы терпеть до конца эту встречу, в данном случае быть не может.
– Еще? – спросила Беатрис, когда он отодвинул чашку.
– Нет, спасибо. А вы сами почему не пьете?
– Не знаю, не хочется. В жару у меня никогда нет аппетита…
Вскочив – словно обрадовавшись, что можно чем-то заняться, – Беатрис откатила стол обратно к окну. Ролики на ножках, очевидно уже совершенно стертые, отчаянно визжали.
– Давайте, я их смажу, – предложил Фрэнк. – Масло у вас есть?
– Нет, откуда же? Не стоит возиться, Фрэнклин, я когда-нибудь сделаю это сама…
Постояв возле стола, словно не зная, заняться ли уборкой или оставить все как есть, Беатрис вернулась к кровати и села на край, боком к Фрэнку.
– Жарко сегодня, – сказала она очень усталым голосом.
– Ваши вкусы изменились, Дора Беатрис. – Фрэнк улыбнулся. – Я вот сейчас смотрю на вас и вспоминаю, как вы в свое время возмущались девушками, которые носят брюки.
Беатрис помолчала.
– Так удобнее, – отозвалась она нехотя. – Меньше тряпок приходится возить. У меня с собой только одно платье, полувечернее, чтобы пойти иногда в концерт. Хотя я вообще хожу редко…
– Раньше вы любили музыку, – сказал Фрэнк и тут же сообразил, что этого говорить не стоило.
– Да, раньше любила, – сказала Беатрис. – Почему я еще ношу брюки – я часто катаюсь на велосипеде. Велосипед есть у консьержки внизу, она дает напрокат. Здесь хорошие велосипедные дороги, называются «макадам», можно проехать по всей стране. Конечно, я далеко не езжу. Куда-нибудь в Лакен или в Форе-де-Суань. Чудесный лес, до самого Тервюрена. О, послушайте, Фрэнклин! – На секунду Беатрис обернулась к собеседнику, слегка улыбнувшись, впервые за все время их встречи. – Хотите, я вам покажу немного город? Идемте, побродим по самым интересным местам. Хотите?
– С вашего разрешения лучше побудем здесь, – виноватым голосом ответил Фрэнк. – Я хотел бы поговорить с вами серьезно и… На улице не совсем удобно, мне думается.
– Вы правы, – сказала Беатрис. Из голоса ее сразу исчезло искусственное оживление, с каким она предлагала пойти погулять. – Улица – это, конечно, не самое удобное место для серьезного разговора. Я не совсем, правда, понимаю, о чем вы хотели бы поговорить, но… Что ж, я слушаю.
Нет, все-таки он правильно сделал, что сюда приехал. Ничего хорошего для него из этого разговора не получится, но будет хоть достигнута какая-то ясность. Впрочем, неужели до сих пор для него еще оставалось что-то неясным? Все равно, он должен услышать это от нее самой.
–Говорите же, Фрэнклин, – повторила Беатрис. – Я вас слушаю.
– Да, простите, я… сейчас скажу. Я думаю, Дора Беатрис, что нам нужно все же поговорить о… о наших отношениях…
Он сидел в трех шагах от Беатрис, подавшись вперед в своем кресле, опираясь локтями на колени и крепко соединив концы расставленных пальцев. Беатрис, сидя очень прямо со сложенными на коленях руками, безучастно смотрела куда-то в окно. Глянув на нее, Фрэнк снова опустил голову.
– Ведь определенные отношения между нами существуют, Дора Беатрис… Вы не можете этого отрицать. Существуют, несмотря ни на что. Вы только не примите мои слова за упрек, я просто констатирую факт. Если между двумя людьми возникает, хотя бы на короткий срок, то, что было между вами и мною, то это не так просто забыть и от этого не так просто отделаться. Это остается, несмотря ни на что. Я…
– Почему вы все время говорите «я»? – перебила Беатрис. – «Я думаю», «я констатирую факт», «я», «я»… Пока вы не поймете, что помимо вас в этой истории участвую еще и я, мы все равно ни до чего не договоримся. А я могу сказать вам о себе только одно. Поймите раз и навсегда, Фрэнклин Хартфилд, что я не в состоянии вас любить. Поймите это, ну пожалуйста. И, пожалуйста, оставьте меня в покое, пока я еще не сошла с ума!!
– Я не могу оставить вас в том, что вам угодно называть «покоем», – упрямо возразил Фрэнк. – Я оставил бы вас, если бы вы были счастливы. Если бы не произошло несчастья и если бы вы действительно оказались…
– Не нужно, Фрэнк, ради всего святого, – умоляюще сказала Беатрис, – я же вас прошу!
– Если бы вы оказались по-настоящему счастливой с тем человеком, я не приблизился бы к вашей жизни ни на шаг. Наверное, он действительно был лучше меня, раз вы его полюбили. Вы для меня значите слишком много, чтобы я мог брать под сомнение справедливость вашего выбора. Что бы со мной было – вопрос другой; может, я спился бы, не знаю. Во всяком случае, вам бы я не навязывался. Но ведь он умер, Дора Беатрис, вы же не можете прожить жизнь воспоминаниями! Вы же не можете искалечить себе жизнь из-за той встречи!
Беатрис вскочила, словно собравшись выбежать из комнаты, но овладела собой и забралась на постель с ногами, сев по-китайски на пятки, теперь уже лицом к Фрэнку.
– Dios mio, какое красноречие! – воскликнула она с издевательским смехом. – Что вы окончили, сэр, – Массачузетский технологический или факультет теологии в Саламанке? Вместо того чтобы учить французов строить перехватчики, вам следовало бы ехать распространять библию среди папуасов – с вашим талантом проповедника!
Фрэнк покачал головой.
– Вы хотите кончить дело ссорой, Дора Беатрис, но меня вы из равновесия не выведете. Скорее расплачетесь сами, у вас уже дрожат губы. Не нужно. Давайте все же не ссориться окончательно.
– Хорошо. Я не хочу ссориться, – сказала Беатрис, пытаясь овладеть собой. – Я хочу только, чтобы вы меня поняли. Вы уговариваете меня «не калечить жизнь» – но моя уже все равно искалечена. Я разлюбила жизнь. Понимаете? Она мне не нужна. Я еще надеюсь, что Бог удержит меня от самоубийства, потому что никаких внутренних барьеров от этого, кроме боязни причинить горе отцу, у меня нет. Это вам понятно? А вы теперь являетесь читать мне проповеди о том, как нужно устраивать свою жизнь наиболее удобным образом! Никак я ее не хочу устраивать в этом подлом мире!! И пусть он провалится в преисподнюю, или разлетится вдребезги, или его сожгут этими вашими бомбами – понятно вам?!
– Глупости, Дора Беатрис. Мир не так подл, как вам кажется. Есть в нем и подлость, есть и… ну, святость, что ли, есть и просто среднее – обычные люди, такие вот, как мы с вами. Таких людей очень много. Я не думаю, что так уж похвально желать им всем провалиться или погибнуть от…
– Еще одна проповедь?
– …от радиации. То, что вы говорите, – слишком чудовищно, чтобы это могло быть всерьез вашими мыслями. Рано или поздно вы сами поймете их нелепость, и, наверное, лучше всего было бы предоставить вас на это время самой себе…
– Я давно уже прошу вас об этом! – выкрикнула Беатрис чуть не со слезами.
– …если бы вы были девушкой более уравновешенной, – продолжал Фрэнк, изо всех сил стараясь говорить спокойно. – Но вся беда в том, Дора Беатрис, что это может наложить на вас какой-то отпечаток, понимаете, может получиться что-то вроде коррозии, простите за техническое сравнение… И тогда жизнь действительно окажется искалеченной… Оставить вас в таком положении я не могу. Ведь вы же когда-то сами писали мне…
– Что?! Что я вам писала? – Беатрис выпрямилась, словно подброшенная пружиной, и стояла теперь на коленях на краю постели. Фрэнк, с красными пятнами на щеках, тоже встал. – У вас хватает совести напоминать мне о моих письмах! О моих обещаниях!
– Послушайте, – нахмурился Фрэнк, – я вовсе не об этом, я…
– В свое время я считала вас джентльменом, – не слушая его, продолжала Беатрис, – так что мы ошиблись в равной мере! Да, я обещала выйти за вас замуж! Но ведь я уже вас не люблю – мне нечем любить, понимаете, у меня здесь пусто! Что же вы от меня хотите, Фрэнк Хартфилд?! Для чего я вам? Что я вам могу теперь дать?! Скажите же, рог Dios, что вам от меня нужно!! Если вам нужна моя душа, мое сердце – то они мертвы, их нет, понимаете ли вы это! А если вам нужно только мое тело – пожалуйста! Вы считаете, что я осталась перед вами в долгу? Можете получить по своему счету!
– Беатрис!!
– Можете провести сегодняшнюю ночь у меня! – выкрикнула она сквозь слезы. – Или взять меня с собой в «Бедфорд»! И утром у нас не останется никакого долга в отношении друг…
Фрэнк шагнул к постели и коротким движением, без размаха, хлестнул Беатрис по щеке. Она отшатнулась и села, схватившись руками за лицо. Секунду он смотрел на нее, пытаясь что-то выговорить прыгающими губами, потом повернулся и молча вышел.
Вернувшись в свой номер, Фрэнк бросился на кровать и долго лежал не раздеваясь, сняв лишь обувь и ослабив узел галстука. Вечером он позвонил в агентство «Сабена» и заказал билет, потом вышел поужинать. Потом опять лежал и курил, стряхивая пепел на ковер. Вспомнив, как рассказывал Беатрис об испытаниях нового французского самолета, он обрадовался – в портфеле у него лежал взятый с собою номер «Эрплэйн» со статьей об этих компаунд-установках. Статью он начал читать еще в самолете, но бросил – слишком волновался, думая о предстоящей встрече. Идиот!
«…Необходимость разгона до боевой скорости за минимальное время имеет огромное значение для перехвата. На фигуре 4 показаны типичные кривые изменения коэффициента лобового сопротивления самолета и коэффициента тяги турбореактивного двигателя. Из графика видно, что эти линии идут почти параллельно и сходятся очень медленно. Теоретически возможно достижение максимальной скорости, соответствующей большому числу М, но ускорения при этом будут весьма малы. Если для достижения скорости, соответствующей числу М-2, принять дополнительный суммарный вес двигателя и топлива равным 0,2 взлетного веса самолета, то…»
Фрэнк швырнул журнал и встал. Работа начнется завтра, в Тулузе. А сегодня – что делать сегодня?
Он вышел из отеля, пересек шумную, ярко освещенную авеню де Миди и свернул в первый попавшийся темный переулок. Не переулок, а просто щель какая-то, да еще кривая. Проклятые европейцы, когда они научатся жить по-человечески?..
Повернув несколько раз вправо и влево, он вышел вдруг на довольно большую площадь, кажущуюся тесной от узких фасадов сдавленных средневековых домов. Дома были в резьбе, в позолоте, в тонких острогранных колонках. Над всем этим, подсвеченная снизу, вонзалась в черное летнее небо высокая, вся из белого каменного кружева, башня, увенчанная какой-то золоченой фигурой. Он долго стоял с закинутой головой, потом обошел всю площадь. Все это было не на самом деле – эта площадь и этот сегодняшний разговор с Трикси, вообще все. Проклятые европейцы. Строить такие дома! Создавать такие города и такие площади, где чувствуешь себя выброшенным, буквально катапультированным из времени…
Если бы полтора года назад Трикси не встретила того сумасшедшего художника, она сейчас была бы его женой и жила не в Брюсселе, а в Уиллоу-Спрингс. А тот парень, конечно, был сумасшедшим. Ему следовало бы хорошо набить морду, этому проклятому французу, потому что порядочный человек не кончает с собой, когда его любят так, как любила Трикси Альварадо!
Опять француз. Опять европеец. Проклятые европейцы, когда они наконец научатся жить по-человечески, когда эта проклятая Европа забудет наконец о своих завитушках?..
То ли дело у нас. У нас все гладко. У нас все понятно. У нас все блестяще и обтекаемо. Но любят почему-то не нас!
Почему-то любят Европу. Почему-то любят именно то, что непонятно и нелогично.
Какого-нибудь свихнувшегося француза. Какую-нибудь вот такую площадь. У нас, благодарение всевышнему, нет таких площадей. Где у нас есть места, которые могут заставить взрослого человека стоять среди ночи с задранной головой, глазея на улетающего во мрак золотого ангела, и молча, как плачут никогда не плакавшие мужчины, плакать о мгновении, когда ангел был совсем рядом?..
4
Прошло два месяца после июньского восстания. Были вставлены выбитые стекла, засыпаны и залиты асфальтом воронки, похоронены убитые. Лишь оклеенный веселыми рекламами трехметровый забор вокруг обгорелых развалин Курии да еще глубокие рваные рубцы, выгрызенные осколками в полированном граните министерских фасадов, могла напомнить о недавних событиях туристу, попавшему на главную площадь Буэнос-Айреса в начале сентября пятьдесят пятого года.
Впрочем, туристов было мало. Сырая и промозглая аргентинская зима особенно неприятна в столице, и немногие приезжие, едва высадившись с парохода или самолета, стремятся поскорее уехать либо на южные озера, к настоящей горной зиме со снегом и отличными условиями для лыжного спорта, либо на север – посетить жаркий субтропический Жужий, сняться на фоне грохочущих водопадов Игуасу, послушать древние жалобы пастушьей «кены» в трагической каменной пустыне андийских нагорий. Охотников проводить зиму в холодном и туманном Буэнос-Айресе находится мало.