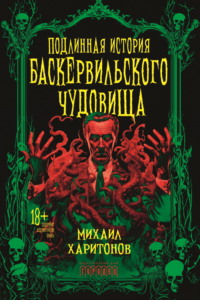
Подлинная история баскервильского чудовища
– Под этим одеялом я тоже мерзну.
– Значит, плед… Все-таки придется зажечь свет, – с несколько наигранным недовольством произнес незнакомец. – Шнур над вами.
Меслов вспомнил про электричество и невольно задался вопросом, почему и зачем ему приснилась горящая свеча. Спохватился, зашарил рукой по стене. Нащупал витой шнур, кстати вспомнил индийскую притчу о веревке и змее, уже всерьез рассердился на себя за неуместный в данной ситуации ход мысли и потому дернул изо всей силы.
Шнур тяжело скрипнул, сверху посыпалась какая-то пыль. Доктор с недовольством отметил про себя, что удобства, заявленные как первоклассные, предполагают иной уровень комфорта.
Под потолком налился желтизной стеклянный круг цвета дегтярного мыла. Свет был слабенький, дохловатый: никакого сравнения с дуговыми фонарями в главном корпусе берлинской лаборатории. В желто-сером тумане расплывались темные контуры предметов. Зрение доктора, и без того дрянное, в последние годы совсем сдало.
– Вы не видели моих очков? – спросил он, отдаваясь на милость незнакомца.
Из тумана протянулась рука с чем-то блестящим:
– Возьмите. Признаться, у меня было искушение остаться невидимкой, но раз уж наш tête à tête получил столь неуместное освещение…
Первое, что увидел доктор, – аккуратно закрытую дверь и новенький, невытертый коврик под ней. Потом – собеседника.
Незнакомец с удобством расположился в кресле, вытянув длинные ноги в клетчатых брюках. Худые руки, тощее, поджарое тело, светло-серый вязаный жилет. Белый стоячий воротничок обертывал шею. Лицо незнакомца было очень выразительным, но каким-то незапоминающимся – взгляд скользил по нему, как пальцы по куску мокрого мыла, не цепляясь ни за одну деталь. Доктор вдруг подумал: если закрыть глаза, то через пару секунд уже не сможет вспомнить, как, собственно, выглядит этот тип, тем более описать его – ну разве что дурацкие клетки на штанинах да прислоненный к креслу скрипичный смычок.
– Вы разглядываете меня так, как будто собираетесь снять мерку, – незнакомец открыл рот, и чары как ветром сдуло. У постели доктора сидел пожилой англичанин, худой и длинный, всем своим видом выражающий главную английскую добродетель – невозмутимую компетентность. Такие лица бывают у дорогой, знающей себе цену (но и свое место) прислуги – старых камердинеров, опытных распорядителей в дорогих отелях, портных с Сэвил-Роу. Доктор почему-то решил, что из такого человека получился бы вполне сносный лаборант.
– Сейчас вы придете в себя и приметесь выяснять, кто я, откуда и что мне надо. Если расхрабритесь, спросите, не собираюсь ли я в этот поздний час дать концерт. Не исключено, что попробуете закричать или убежать, но это вряд ли. Вне лаборатории вы беспомощны. К тому же вам уже интересно. Вы же интеллектуал.
Доктор в смущении потер лоб. Ему нравилось, когда его называли интеллектуалом, но в данном случае, как он понимал, это был не комплимент. Но и не оскорбление, а что-то третье… что-то худшее. «Диагноз» – нашел слово доктор. Да, именно диагноз. Судя по тону – из таких, за которыми следует неблагоприятный прогноз.
– Ну, ну, – англичанин чуть подвинулся в кресле, показав краешек подбородка, – а теперь вы сбиты с ног простейшим риторическим приемом. Нет, я не собираюсь давать концерт – во всяком случае, сейчас. Убежать я вам не позволю, а звать на помощь бесполезно. Да, на всякий случай: я вполне вменяем, дееспособен, и что там еще обычно говорится в таких случаях. Что подтвердил бы любой дипломированный психиатр, если бы наблюдал эту сцену со стороны. Разумеется, я нарушил некоторые условности. Но это входит в мои профессиональные обязанности.
Упоминание о профессиональных обязанностях включило в голове доктора одну из привычных функций.
– Вы говорите слишком быстро, – заметил он.
– Ага-ага, – англичанин осклабился, – это в вас врач проснулся. Люди надевают на других людей маски, и без этих масок мы друг друга не видим. Вы сначала надели на меня личину убийцы, потом полицейского, а теперь, когда я подставился, видите пациента: взволнованного, неуверенного в себе, подозревающего худшее – или уже уверенного в худшем. Такие к вам обычно и ходят, не так ли? Что ж, отчасти вы правы. Я слишком много говорю, поскольку чрезвычайно взволнован. Для меня это нетипичное состояние. Да-да, дорогой доктор, вы наблюдаете редчайшее зрелище. Многие хотели бы полюбоваться. Увы, ничего интересного: я просто начинаю неудержимо болтать.
– Как вы назвали себя? – переспросил доктор.
– Очень немецкий оборот речи – «как вы назвали себя». Но вы правы, я забыл представиться. Меня зовут Холмс, Шерлок Холмс. Я частный сыщик-консультант. Возможно, вы обо мне слышали.
– Что-то припоминаю, – осторожно сказал Меслов.
– У нас куда больше общих знакомых, чем вы думаете, – англичанин никак не мог остановиться, все тараторил и тараторил, – но вряд ли они рассказывали вам обо мне. А мне – о вас. Мы в каком-то смысле коллеги: занимаемся вещами, о которых не говорят. О дьявол, я и в самом деле слишком много болтаю.
– Выпейте успокоительное, – предложил доктор. – У меня есть.
– Спасибо, не стоит. Вот от чего бы я уж точно не отказался, так это от пары затяжек. Я весь на нервах, а тут еще и воздержание.
– У меня на табачный дым аллергия, – вздохнул доктор.
– Помню-помню. Но трубка быстро привела бы меня в норму. А так я весь – как перетянутая струна. Хотя, с другой стороны, взвинченные нервы – не такая уж плохая штука, если относиться к этому хладнокровно. Звучит оксюмороном, но такое возможно… Все же постараемся соблюсти минимум приличий. Итак, я сыщик. Моя работа – раскрытие преступлений. Иногда я берусь и за ликвидацию последствий. В настоящий момент я занят ликвидацией последствий преступления, жертвами которого станут миллионы людей, большая часть которых ни в чем не повинны, кроме естественных человеческих слабостей. Боюсь, мне придется принять тяжелое решение. К сожалению, другого выхода нет. Но вы-то не прогадаете, это я вам обещаю.
– Все это какая-то чушь. И при чем тут я? – попытался сопротивляться доктор.
– Вы принимаете в этом преступлении самое непосредственное участие, – сухо сказал англичанин.
– У вас нет никаких оснований… – начал было Меслов, но незнакомец стремительно вытянул вперед правую руку, призывая к молчанию. На безымянном пальце сыщика сверкнуло кольцо из темного металла.
– Давайте вернемся к этому вопросу чуть позже. Мы ведь знакомимся, не так ли? Продолжим. Я представился, а про вас я и так все знаю. Вы – доктор Абрахам Меслов, уроженец Бреслау, родители приняли крещение. Первое образование филологическое, второе – медицинское. Постоянно проживаете в Берлине. Действительный член берлинского отделения Общества Социальной Гармонии. Закоренелый холостяк. Пользуетесь определенной известностью как биолог, но больше – как популяризатор биологических знаний, пишущий также на отвлеченные темы – в основном метафизические и моральные. Самые известные работы – «Эволюция метафизических иллюзий», а также статья «Наследственность и нравственное здоровье». Однако основной род ваших занятий иной, и далеко не столь возвышенный. В настоящее время вы имеете репутацию крупнейшего в Европе специалиста по известного рода заболеваниям…
Доктор почувствовал приступ привычного раздражения: мистер Шерлок Холмс не побоялся нарушить его покой, но боится называть вещи своими именами.
– Как врач я специализируюсь по заболеваниям, передающимся половым путем, именуемым также венерическими, – проговорил он с нажимом. – Сифилис, например. Или гонорея. Неприличные заболевания, которыми иногда страдают приличные люди. Надеюсь, вы не по этому вопросу. Я сейчас не принимаю.
– Ну как сказать… В каком-то смысле… Кстати, у герцога недавно родился сын. Если ребенок его, то с вашей стороны это замечательное достижение.
– Случай был не запущенный… – принялся объяснять Меслов и осекся.
– Не пугайтесь, ваши сотрудники на высоте, никто не сболтнул лишнего. Мне эту историю рассказал сам герцог. Как я уже говорил, у нас немало общих знакомых… Да, продолжу. Итак, вы – крупнейший в Европе специалист по венерическим болезням, с недавних пор – владелец собственной клиники в Берлине. Роскошное здание, современнейшее оборудование. В Лондоне нет ничего подобного, а ведь наша столица так нуждается в специалистах подобного рода. Лордам приходится ездить на континент, чтобы поправить пошатнувшееся… здоровье, – сыщик выделил голосом маленькую паузу, наполненную ядом.
Меслов поморщился.
– И вы бросили все это ради Америки?
– Вы хотите побеседовать о моих коммерческих перспективах? – попытался съязвить Меслов.
– Нет, – серьезно сказал Холмс. – О вашем преступлении.
– Я не совершал ничего противозаконного, – снова начал доктор и снова был прерван энергичным жестом.
– Может быть, все-таки дадите плед? – вспомнил Меслов. – Он где-то здесь.
– Он лежит рядом с вами, справа. Вы предусмотрительны, доктор, но рассеянны. Опасное сочетание. Как и ваш интерес к морализированию – это тоже опасная страсть. О, это что у вас такое? Вон там, справа? – Холмс внезапно подался вперед.
Доктор зашлепал руками по простыням и нащупал что-то твердое. Взял в руки, близоруко приблизил к глазам.
– Вот, – виновато сказал он, подавая Холмсу книжечку.
Холмс взял томик в голубом переплете, брезгливо отодвинул обложку, заглянул внутрь с выражением лица прозектора, вскрывающего несвежий труп.
– Сочинение какого-то Робертсона, – пробормотал он, пролистывая страницы. – «Он остановил взгляд на молодой женщине с золотистыми волосами и глазами морской голубизны», – прочитал сыщик с отвращением и захлопнул книжку. – Экая дрянь. Лучше бы вы отравляли себе мозг сочинениями господина Уэллса.
Меслов внезапно, как будто вдохнув нашатыря, ощутил всю ирреальность ситуации. Эта ночь, этот холод, это нелепое вторжение и, наконец, цитата из бульварного романа – о нет, нет. Это сон, самый обычный, заурядный кошмар, веронал подействовал, он наконец-то заснул и видит какие-то глупости. Он проснется в Берлине. Джим принесет кофе и булочку, и масло в синей масленке и, как всегда, забудет нож…
Доктор зажмурился и затряс головой. Очки соскочили с носа, кувыркнулись в воздухе и упали на пол стеклами вниз.
– Опять пытаетесь проснуться? – Холмс снова расплылся в туманное пятно, от которого шел голос. – Не буду вас разубеждать, хотя это несложно. Ну давайте посмотрим на вещи с этой точки зрения. Если это сон, вам нечего бояться и нечего стыдиться. Представьте себе, что вы читаете роман. Что-то вроде этого Робертсона.
– Я это читал, чтобы заснуть, – соврал доктор, с трудом наклоняясь, чтобы пошарить на полу.
– Так ли? У вас в платяном шкафу целая гора подобной макулатуры. В основном бульварщина и полицейские романы. Интересно, почему вы ее прячете именно там.
– Как вы смеете… – начал доктор.
– Смею, смею, – Холмс добавил в голос немного холода. – Вообще-то, вы у нас в руках. Если бы мы хотели узнать что-то по-настоящему важное, то разговаривали бы в другом месте. У нас есть отличные специалисты по дознанию, они способны вытрясти правду даже из чиппендейловского гарнитура. Но меня просили не причинять вам лишних страданий. Да я и сам успел к вам привыкнуть за это время. Не то чтобы полюбить или хотя бы простить, но и привычка – это тоже немаловажно.
– Что значит – привыкнуть? – не понял доктор.
– Потом. Меслов, ответьте мне на один вопрос, только честно. Почему вы бросили… а, черт. – Расплывчатое пятно колыхнулось, раздался характерный стук: похоже, Холмс бросил книжку на пол. – Почему вы бросили филологию?
Вопрос настолько выбивался из общей канвы, что доктор опешил, как лошадь, увидевшая живого единорога.
– Это-то вам к чему? – наконец спросил он.
– Не люблю лакун в общей картине, – заявил Холмс. – Итак, почему вы бросили филологию? Я очень любопытен и не отстану, даже не надейтесь.
Деревянная палочка снова коснулась плеча доктора, и тот внезапно ощутил себя червяком, над которым зависла стеклянная пипетка с каким-то опасным веществом.
Меслов решил, что пока будет слушаться, а по ходу дела – прощупает собеседника и поймет, что же ему на самом деле известно. Мысль ему понравилась, хотя само слово «прощупать» всплыло, увы, со страниц какого-то приключенческого романчика, только не немецкого, а американского.
– Раз вы так настаиваете… – начал доктор, воспользовавшись фразой из того же источника. – На самом деле меня интересовала не столько филология, сколько литература. Я писал рассказы. Несовершенные, наверное, но что-то в них было. Хотел сесть за роман, но…
– Кто вам сказал, что в ваших текстах «что-то было»? – Холмс наклонил голову, как умная собака. – Это не ваши слова. Вас кто-то обнадеживал, не так ли? Профессор Рейнхарт, я полагаю? Знаменитый филолог, ваш учитель?
– Вы и это знаете? Да, Георг Рейнхарт. Он проявлял интерес к моему творчеству. Какое-то время. Пока я не попросил его прочитать один мой опус.
– И что же? Он разнес его в пух и прах? – поинтересовался Холмс.
– Хуже, – голос доктора дрогнул. – Он взял мой рассказ и переписал его заново. И показал мне. Почти те же самые слова, но разница – как между мазней ребенка и наброском Рескина. Я прочел, поблагодарил, а потом поинтересовался, чем мне стоило бы заняться в жизни, чтобы иметь успех. Он порекомендовал медицину. «У вас есть вкус к мелким физиологическим подробностям, совершенно избыточный для литератора, но важный для клинициста» – до сих пор помню эти слова… Через год самостоятельных занятий я поступил на медицинский.
– Трогательно. Не жалеете?
– Георг Рейнхарт был прав, – вздохнул Меслов. – Как литератор я безнадежен. Например, эта озабоченность подробностями. Ну, например, когда я описывал пробуждение героя, то должен был сначала изобразить, как он встает с постели, потом ищет свечу, зажигает, и все это в мелких деталях, вплоть до каждого жеста… Иногда это превращалось в настоящий кошмар.
– Обилие деталей облегчает чтение, – заметил Холмс. – Люблю точность.
– Не понимаю, чего вы от меня добиваетесь, – вздохнул доктор.
– О, непонимание – это нормально. Я тоже многого не понимал. Например, почему ваш учитель, которого вы боготворили, с такой жестокостью растоптал ваше литературное самолюбие. Пока не выяснил детали. Вы были благонравным юношей. И симпатичным, как думал ваш учитель, – добавил Холмс. – Который завлек вас к себе домой, напоил – первый и последний раз в жизни – и попытался совратить. Попытка оказалась неудачной. К тому же вы спьяну назвали его вонючим швулем. Профессор Рейнхарт пришел в ярость и выставил вас вон. Вы были так пьяны, что ничего не запомнили. Хотя потом вы каким-то образом выяснили правду и даже ее записали. Кстати, весьма выразительный текст.
Повисло молчание. Где-то снаружи раздался тяжелый гул и тут же смолк.
– Какая чушь! – вздохнул Меслов. – Какая нелепая чушь!
– Отрицаете реальность? – насмешливо спросил сыщик.
– Какая уж тут реальность… – Доктор замялся, потом махнул рукой. – То, о чем вы говорили, – литературный опыт. Тот самый, о котором я говорил. Мой рассказ. Точнее, вариант профессора Рейнхарта.
– Написанный вашим почерком? – Холмс прищурился. – Не смешите меня, доктор.
– Вы и в самом деле ничего не понимаете, – Меслов откашлялся: холод забрался в горло. – Совсем. Хоть и рылись в моем архиве. Кого вы подкупили? Джима? Во что вам обошлись его услуги?
Холмс неожиданно рассмеялся.
– Ну-ну, – с трудом выговорил он, вытирая глаза рукавом. – Старина Джим не получил ни пенни. А вот я, похоже, где-то дал маху. Хотя… почему в тексте – подлинные имена? О нет, не надо объяснений, – он снова выставил руку вперед, – я сам догадаюсь. Вы таким образом признались профессору в своих чувствах, не так ли? И описали желательный для вас вариант развития событий, в мелких подробностях. Что его и оттолкнуло. Мужеложцы обычно сентиментальны и на дух не переносят, когда вещи называют своими именами. Ваша ошибка была чисто стилистической, Абрахам. Но именно такие ошибки оказываются роковыми.
– А вот это – не ваше дело, – сказал Меслов.
– Ага! – Холмс поднял палец вверх. – Теперь мне более понятны причины, толкнувшие вас на преступление. Я-то думал, что вы – жертва домогательств старого мужеложца. Оказывается, вы – отвергнутый поклонник, к тому же вас отвергли столь оскорбительным образом. Вами побрезговали. Неудивительно, что вы остались девственником. И занялись лечением скверных болезней. Жалкий вид венерических больных, их страдания, их страх перед разоблачением – все это укрепляет вас в вашем отношении к половой сфере, и особенно в той ее части, что отклоняется от так называемой нормы. Но вашим чувствам необходима пища, желательно – регулярная, поэтому большинство ваших клиентов – именно педерасты, которых вы лечите и которых ненавидите…
– Прекратите нести чепуху, – неожиданно резко оборвал его доктор. – Может быть, у вас котелок и варит, – добавил он с отвращением, – но то, что в нем варится, скверно пахнет. У вас отшибло нюх, Холмс.
– А вы ведь это всерьез, – с некоторым удивлением протянул сыщик. – Похоже, я и в самом деле в чем-то ошибся. В чем именно?
– В главном. Холмс, как вы думаете, зачем я переписал рассказ?
– Ах, ну да, вы его переписали… Текст профессора был неразборчив… Какая чушь! Хотели выдать за свое? Нет, зачем тогда копировать самому… Нет, не понимаю.
– Да ни черта вы не понимаете, – с горечью сказал доктор. – Вот и я тоже не понял, как он это, черт возьми, сделал! Почему у него это получилось ярко и достоверно, а у меня – нет.
Холмс хлопнул себя по лбу:
– О-о-о! Ну конечно! Вы переписали текст от руки, чтобы хоть так понять, в чем секрет. А ведь профессор был прав – у вас сугубо научный подход… Постойте-постойте. Стоп! Вот оно! – Холмс в возбуждении щелкнул пальцами. – Вы ведь не гомосексуалист и никогда им не были, вы не испытываете тяги к мужчинам, – длинный палец сыщика уперся доктору чуть ли не в переносицу. – Вы взяли эту тему именно потому, что пытались проникнуть в недоступную для вас область чувств. Страсть к исследованиям!
– Наконец-то, – Меслов грустно улыбнулся.
– И, конечно, имена в вашем тексте были другие. А ваше и свое вставил сам Рейнхарт. Чтобы вас унизить и задеть. Потому что для него эта тема была глубоко личной и весьма болезненной. Чего вы, разумеется, не учли. А может быть, даже не знали? Простите за откровенность, но вы и в самом деле плохой литератор: при всей своей страсти к исследованиям, у вас проблемы с глазами, ушами и житейским чутьем, а хороший писатель должен всем этим обладать почти в такой же мере, как и хороший сыщик… Но оставим это, – Холмс чем-то звонко щелкнул – видимо, крышкой часов.
– В любом случае у нас еще есть время, – пробормотал он. – Ладно. В каком-то смысле я у вас в долгу. Расскажу-ка в таком случае другую историю, тоже связанную с литературой. Когда меня спрашивают, почему я не читаю романов, я обычно отвечаю, что не хочу захламлять свой чердак, – раздался характерный звук: похоже, Холмс постучал пальцем по черепу. – На самом деле причина не в этом. Хотите знать правду?
– Нет, – сказал доктор. – Мне это неинтересно, – повторил он.
– И все-таки послушайте. Не знаю, как вы, а я просто места себе не нахожу. Мне нужно отвлечься, да и вам не помешает. Итак, однажды… это было в молодости, когда я бросался на любую задачу, достойную моего интеллекта, как волк на свежее мясо… так вот, однажды мне в руки попал какой-то роман. Из тех, которые вы читаете по вечерам, когда не заняты ни людьми, ни лягушками. Имя автора вам ничего не скажет, название тоже. Дурацкая история о молодом человеке и наследстве, которое он стремился получить. Автор в конце кое-как свел концы с концами, женив героя на богатой вдове. Никакой художественной ценности роман не представлял, но что-то заставляло меня перечитывать его раз за разом – так, как я впоследствии перечитывал раз за разом свидетельские показания в поисках зацепки. И, представьте себе, на восемнадцатой странице я нашел улику! Самую настоящую улику. Дальше я стал разматывать клубок, выискивая обмолвки, случайные детали, все то, на что сам автор не обращал никакого внимания. Книга сопротивлялась анализу, как олеронская устрица ножу, но я был настойчив. В конце концов события выстроились в стройную картину. Роман оказался подобным айсбергу – у него была подводная часть. Преступление – дерзкое и коварное, особенно потому, что почти все события совершались как бы на виду. Кстати, преступницей была вдова, а молодой человек – всего лишь ее орудием… Впрочем, неважно. Я столкнулся с двумя вещами. Во-первых, я твердо убежден в том, что все мои выводы справедливы. Я применил к роману дедуктивный метод, который никогда меня не подводил в реальности, и получил однозначный результат. И, во-вторых, я столь же твердо убежден, что автор не вкладывал в свой опус двойного смысла – во всяком случае, сознательно. Этот пошлейший писака даже не догадывался о том, что на самом деле происходило между его героями! А теперь подумайте, какой из этого следует вывод?
– Пока не понимаю, – осторожно сказал доктор.
Холмс глянул на него искоса, как ворона.
– Как сказал некий не очень удачливый сочинитель – точнее, его герой, – откиньте все невозможные версии, и та, которая останется, будет правдой, как бы невероятна она ни была. Итак, в романе содержалось то, чего автор туда не вкладывал. Это означает, что так называемая художественная литература не является чистой выдумкой, плодом произвола.
– Текст обладает внутренней логикой, это вам скажет любой филолог, – заметил Меслов.
– Вот, вот! А то, что обладает своей внутренней логикой, то есть своими законами, уже не является совершеннейшей фикцией. То есть миры, создаваемые писателями, в каком-то смысле реальны, – хотя, разумеется, их не существует в том же смысле, в котором существуем мы с вами. Но для самих себя они реальны, хотя, наверное, не все. Во всяком случае, я изучил еще несколько сочинений того же автора и не нашел ничего похожего на расследованное мною дело: там не было ничего, кроме грубых ниток, на которых дергались бессмысленные марионетки. Но тот роман, ничем не выделяющийся – он описывал настоящие события, я в этом уверен. Из чего мы можем заключить кое-что о природе Божества, – неожиданно завершил незнакомец.
– Каким образом? – поинтересовался доктор: в голове всплыли размышления о Беркли. Их догнала мысль о том, что наблюдаемое, пусть даже внутренним образом, с помощью воображения, и в самом деле реально – а хорошая литература создает именно оптический эффект. Меслов подумал, что эту мысль стоило бы развить.
– Я предполагаю, – сказал Холмс, и в его голосе прозвучала своего рода наигранная неуверенность, – что Бог создал мир примерно таким же образом, каким мы сочиняем художественную прозу. «В начале было Слово» – это прямое указание на природу нашей реальности. Наша свобода воли – то же самое, что и свобода воли литературного персонажа. Автор волен написать все что угодно, но некая толика свободы все-таки не может быть полностью отнята у несчастной марионетки, и нам иногда удается провернуть кой-какие делишки под самым носом сочинителя…
Меслов осторожно запрятал мерзнущую левую руку под плед.
– И если уж на то пошло, – продолжал разглагольствовать сыщик, – Бог – довольно скверный литератор. Пейзажи и описания природы у него выходят неплохие, но вот сюжетная сторона никуда не годится. Хотя если рассматривать наш мир как груду черновиков, это объяснимо. Большинство судеб – продукт божественной графомании, тщетные попытки выписать какой-нибудь мелкий эпизод. Миллионы домохозяек живут и умирают потому, что Господь никак не может завершить одну-единственную сцену на кухне или в детской… В таком случае мы все – жертвы стремления Творца к совершенству. Но если даже и так – кто-то должен воспрепятствовать развитию некоторых сюжетов. Или, наоборот, завершить их.
Доктор осторожно пошевелил пальцами на ногах – плед был коротковат, пальцы занемели от холода.
– Тут практически не топят, – пожаловался он. – Не пойму, за что я платил деньги.
– Мы тут делаем некоторые приготовления и, кажется, задели какую-то отопительную трубу, – озабоченно сказал Холмс. – Мне тоже зябко. Но признаю, что вам приходится хуже: у вас плохое кровообращение. Остается согреваться беседой. Так, может быть, все-таки расскажете, как это было?
– Что было? – вздохнул доктор.
– Кто к вам обратился. Почему именно к вам. Что вы знаете о болезни. Почему согласились на предложение. Все подробности. Еще раз: мы все знаем. Все или почти все. Вы уже свыклись с этой мыслью. Остались мелкие детали. Итак, кто к вам обратился?
Меслов втянул в себя сырой, холодный воздух. Теперь ему хотелось только одного – согреться.
– Это был адвокат, американец. Он представлял интересы клиента, страдающего пневмонией, но убежденного, что стал жертвой болезни, неизвестной современной науке и при этом – передающейся половым путем. По словам адвоката, американские врачи отнеслись к нему с предвзятостью, так как он чернокожий. Поэтому он поехал в Европу, чтобы обратиться в мою клинику. Сумма, предложенная за обследование, меня впечатлила.