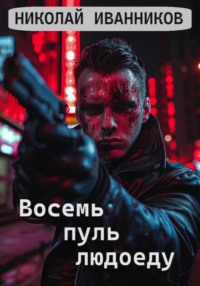
Восемь пуль людоеду
– А где в это время находилась супруга Зубастого?
– Супруга? – Антон презрительно хмыкнул. – Это Сонька Губа, она супруга каждому, кто заплатит. И когда я завалил этого гада, она не сильно печалилась. Больше испугалась, все ждала, когда я за нее примусь, тряслась, как осиновый лист. Может, со страху ментов и вызвала – в другое время никогда бы не стала, но тут, видно, подумала: пан или пропал. И решила рискнуть.
– Где находилась эта Сонька Губа, когда ты стрелял в Зубастого?
– В постели, где же еще? Спала уже, да выстрелы разбудили. Когда я вошел в спальню, она хотела завизжать, но я ей пригрозил…
– Каким образом?
– Собственно, я и не грозил даже, а просто показал пистолет и покачал головой, но она меня прекрасно поняла. Кричать, по крайней мере, не стала.
Руднев перестал наконец расхаживать от двери к окну, остановился у стула, на котором сидел Антон, и присел на корточки.
– А сейчас, Антон, постарайся припомнить расположение комнат в квартире Зубастого. Только внимательно, как можно точнее.
– Ну и?
– Скажи, находясь в спальне, лежа в постели, можно видеть, что происходит в прихожей?
– Н-нет, – сказал Антон неуверенно. Потом добавил уже более окрепшим голосом: – Нет, это невозможно. Во-первых, дверь в спальню была прикрыта…
– Прикрыта или закрыта? – перебил его Руднев.
– А что, есть какая-то разница?
– Огромная. Если дверь закрыта, то это значит – заперта так, что никто не сможет увидеть, что происходит за ней, и тем более не сможет проникнуть. А если она всего лишь прикрыта, то всегда есть шанс что-нибудь подсмотреть в оставшуюся щель. Понимаешь?
– Понимаю. Дверь была закрыта. Никаких щелей. Это во-первых. А во-вторых, даже если дверь и раскрыта настежь, то все равно, лежа в постели, невозможно видеть прихожую. Это реально, если стоять у окна, лицом к двери, да и то… А лежа в постели – нет, невозможно.
Руднев хлопнул себя по коленям и распрямился.
– Это мне нравится, – сказал он. – Это нам на пользу… Хотя хочу тебя предупредить – все очень и очень серьезно. Не стоит ни на минуту забывать об этом, Антон.
Антон нахмурился с какой-то, как показалось Ирине, брезгливостью. Она хотела еще раз напомнить Антону, чтобы тот не смел грубить адвокату, но брат не дал ей и рта раскрыть.
– Какого черта? – сказал он. – Если ты думаешь, что я буду тут расшаркиваться перед тобой только потому, что ты адвокат, то ошибаешься… Знаешь, кого я не люблю больше всего на свете? Адвокатов.
– Все не любят адвокатов, – согласился Руднев. – Но когда приходит нужда, многие бегут именно к нам, адвокатам, и готовы последнее отдать, лишь бы их дело попало к кому-нибудь половчее… Впрочем, этот довод стереотипный. То же самое говорят о себе милиционеры, сантехники, связисты и еще целая армия народу. И даже бандиты.
– Заткнись, – посоветовал ему Антон.
– Антон! – вспылила Ирина, вскочив со стула. – Мне кажется, будет лучше, если ты действительно сперва проспишься, там, на нарах…
– А я и так спал, пока вы не пришли, – сказал Антон невозмутимо. – И я не просил меня будить. И тем более не просил тебя приводить с собой адвокатов.
Знаешь, Птичка, если бы я боялся тюрьмы, то попросту убежал бы и не стал дожидаться, когда за мной придут.
Ирина посмотрела на Руднева. Тот, поймав взгляд, коротко покивал: мол, видишь, я так и предполагал.
– Но почему?! – спросила Ирина с чувством, возведя руки к небу. – Почему ты сделал это?
Антон рассмеялся. Потом сказал:
– Если честно, то я и сам не знаю… Может быть, и не стоило этого делать, а может, и наоборот, – надо было сделать это уже давным-давно… Кто знает? И если уж кто-то и виноват, что все сложилось таким образом, то это не я.
– А кто же?
– Не знаю. Может быть, и ты.
– Я?! – возмутилась Ирина. – Ну, знаешь ли… Спасибо, Тошка, спасибо, братец драгоценный. Разреши узнать, с чего это вдруг ты сделал такие выводы?
Скривившись, Антон махнул на нее рукой.
– Сестренка, прекрати! Ты же прекрасно знаешь, что я не мастак что-нибудь объяснять. Это у нас Славка писатель, мастер слова и все такое прочее. А я – так, просто бандит, и ничего более. Да и долго все это объяснять. Может получиться целый роман, а у меня нет времени писать романы, я не Славка.
– Ты упомянул его уже дважды. Это что – зависть?
– Ха! Нет, Птичка, я человек не завистливый. И Славку я упомянул не потому, что злюсь: у него, видите ли, жизнь сложилась, а у меня, видите ли, нет; у него видите ли дом, жена, дети, популярность, а у меня только наручники да нары… Нет, все совсем не так. Просто я в самом деле вряд ли смогу что-нибудь объяснить. Это как цепочка – начнешь говорить одно, оно потянет за собой другое, потом третье и так далее. Она может уйти слишком глубоко в прошлое, эта цепочка, но что самое обидное – все это никому не будет интересно, кроме меня самого.
– Мне будет интересно, – вставил Руднев.
Антон посмотрел на него слегка затуманенным взглядом. Потом продолжил, словно и не заметив реплики:
– Да и в этом ли главное? Никого не должно волновать, ПОЧЕМУ я это сделал. Сделал – и все тут! И если ты хочешь помочь вытащить меня отсюда – пожалуйста, я не стану мешать. А если не хочешь, то упрашивать я тоже не буду, как-нибудь обойдусь.
Он говорил очень твердо, уверенный в собственной правоте, но на последнем слове что-то случилось с его голосом – едва заметное, неуловимое, словно споткнулся Антон на этом месте, да споткнулся так, что с размаха упал лицом в грязь и от обиды закусил губу, чтобы не расплакаться.
Вряд ли Руднев обратил на это внимание. Но Ирина слишком давно знала Антона, чтобы не заметить этого. И у нее тоже моментально перехватило горло. И она тоже не смогла ничего больше сказать. Лишь ближе подсела к брату, обняла и прижала его бритую голову к своей груди.
– Тошка… – прошептала она. – Как же мы так?
Она не сказала «ты», она сказал «мы», и Антон это заметил. Ирина почувствовала, как вздрогнули под ее руками его плечи.
– Как все это объяснить? – сказал Антон тихо. – Как объяснить, почему один человек становится писателем, уважаемым и популярным, другой – миллионером и самым богатым в городе человеком, а третий – всего лишь бандитом, хотя они росли все вместе и воспитывали их одни люди?
– А ты говорила, что твой брат не склонен к сантиментам, – заметил Руднев.
Но на него не обратили внимание.
– Если ты хочешь, я могу все рассказать, – сказал Антон все так же тихо. – Эта цепь слишком тяжелая и ржавая, но мне самому будет интересно вытащить ее наружу. Так что, если тебе интересно…
– Конечно, – сказала Ирина и потерлась щекой о колючие волосы брата. – Мне будет очень интересно…
Глава 1 (1985 год)
Трудно сказать, когда Антон впервые понял, что такое злость. Возможно, это произошло еще в пеленках, когда у матери неожиданно кончилось молоко. Антон сначала просто недоумевал по этому поводу, а когда же ему предложили взамен бутылку с натянутой на горлышко соской, вот тогда-то все его существо и воспротивилось такой несправедливости. Сначала он выплевывал соску и непослушными ручонками отпихивал от себя бутылку, пытаясь втолковать неразумной женщине, что он не желает брать в рот эту противную резину, а хочет вкусную мамину грудь. Но его мнение, похоже, никого не интересовало – ему настойчиво продолжали запихивать в рот соску. И вот тогда он разозлился. Он задергал руками и ногами, закричал изо всех своих младенческих сил, стараясь как можно доходчивей втолковать всем и каждому: я злюсь!
Впрочем, сейчас подтвердить это не смог бы никто, даже сам Антон. Так же можно сказать, что впервые он разозлился еще при родах, когда треклятая пуповина обмоталась ему вокруг шеи и стала душить, душить, душить…
А если говорить о настоящей, осознанной, рвущейся изнутри злости, когда кровь застилает глаза, когда перестаешь мыслить разумно и живешь одной лишь злостью, когда хочется уничтожить объект своей ненависти… то, пожалуй, первый такой случай, навсегда оставшийся у Антона в памяти, произошел, когда он учился в четвертом классе.
Хулигана звали Бек. Антон считал тогда, что это кличка, и все никак не мог понять, за что тот ее получил; только позже он узнал, что это была его истинная фамилия. Собственно, настоящим хулиганом Бек не был. Он был из тех, кто никогда не приобретает настоящих друзей, кто прогуливает уроки, чтобы в одиночестве покурить на школьном крыльце, потому что на переменах в свои компании его никто не приглашал, а заводить непринужденные знакомства он не умел, кто все свои странные и непонятные большинству сверстников дела предпочитает творить в одиночестве, кто никогда не влезает в большие драки, но вместе с тем слывет грозой младшеклашек.
Антон в те времена считался младшеклашкой, и Бек был для него чем-то вроде пугала. Он казался ему каким-то сверхъестественным существом, вездесущим и грозным, и то, почему старшеклассники без страха и даже наплевательски относятся к его присутствию в своей среде, было вне его понимания.
Бек был довольно крепким для семиклассника. Роста невеликого, плечи имел широкие и угловатые, а ноги – толстые и короткие, так что со стороны Бек напоминал ходячий шкаф, или, вернее – комод, облаченный в темно-синюю школьную форму. Он никогда не упускал возможности поиздеваться над младшеклашками, причем всегда делал это молча, и лишь маячила на его лице какая-то странная кривая улыбка.
Антону обычно везло. Бек уже давненько охотился за ним и еще парочкой его приятелей, но всякий раз им удавалось уйти от его цепких рук – то выскочат из школы на улицу и что есть сил побегут к гастроному, где всегда можно затеряться, то юркнут в учительскую под каким-нибудь идиотским предлогом, то найдут защиту под крылышком Тошкиной сестры Ирины, которая училась с Беком в одном классе и считала его полным дебилом.
Но однажды Антон попался; зашел в самом конце перемены в туалет, а на выходе уткнулся лбом прямо в чей-то огромный живот. Мысленно ругнувшись, он поднял голову. В груди сразу похолодело – перед ним стоял Бек и улыбался своей знаменитой блуждающей улыбкой. Антон и пикнуть не успел, как крепкая рука схватила его за шиворот и приподняла над полом. Проделано это было с такой легкостью, что Антон сразу же почувствовал себя слабым и беспомощным.
– Попался, – кратко констатировал Бек.
– Отпусти, – слабо дернув ногами, попросил Тошка. – Че я сделал?
– А кто обзывал меня «толстым»? – поинтересовался Бек.
Обзывал его вовсе не Антон, а Костик Жмыхов, Тошкин приятель, но объяснять это Беку не имело смысла. Для него все младшеклашки были на одно лицо.
– Сейчас я из тебя буду делать Иисуса!
Тошке стало совсем нехорошо. Он знал, что значит «делать Иисуса». В том же закутке, где располагались туалеты, было большое окно – начиналось оно почти от самого пола и заканчивалось под потолком; стекла в нем были матовые и очень толстые, небьющиеся, но все же для перестраховки окно было забрано металлической решеткой. Это место и называлось «распятием». Бек имел обыкновение своих жертв пристегивать к этой решетке на все пуговицы, которые имелись на школьной форме, прижав жертву к решетке животом и раскинув ей по сторонам руки. Потом он шнурками привязывал к нижней перекладине ботинки, и жертва уже ничего не могла поделать – только трепыхаться, как попавшая в паутину муха. Самостоятельно вырваться из такого плена было очень трудно, почти невозможно, и надеяться можно было только на то, что после звонка на урок, когда Бек удалится, кто-нибудь случайно наткнется на тебя в этом закутке.
– Не надо, ну не надо, – слабо уговаривал Тошка своего пленителя, не надеясь, впрочем, что уговоры помогут. – Я ничего тебе не сделал. И скоро уже звонок…
Бек не имел желания вести беседу. Молча, точными движениями опытного инквизитора, он пристегнул Тошку к решетке пуговицами на пиджаке, потом раскинул ему руки в стороны и пристегнул манжеты. Зазвенел звонок. Тошка дернулся и забормотал:
– Все, хватит, отпусти, мне на урок надо!
Беку тоже надо было на урок, и поэтому он поторопился кончить дело – завязал шнурки на два узла и, подумав, усилил путы, привязав Тошкину шею к решетке пионерским галстуком.
– Все, отдыхай, – с усмешкой сказал Бек на прощание, отвесил затрещину, и Тошка услышал его тяжелые удаляющиеся шаги.
– Эй! – крикнул Тошка с отчаянием. – Эй ты, Бек, толстый, отпусти меня!
Но от Бека уже и след простыл.
– Гад! – закричал Тошка, дергаясь на решетке. – Скотина толстая!
Больно не было, но зато было очень обидно, настолько, что на глаза навернулись слезы. У четвертого «Б» класса, в котором учился Тошка, сейчас был урок математики, учитель объявил контрольную работу, первую в этом учебном году, и пропустить ее по вине Бека было очень обидно, тем более что вчера Тошка к ней так старательно готовился. Ведь потом ему никто не поверит, что он пропустил контрольную из-за Бека – учитель уж точно не поверит.
– Сволочь! – крикнул Тошка. – Свинья!
В школе постепенно становилось все тише, голоса замолкали, только из кабинетов неподалеку доносилось едва слышное бубнение. И вдруг в туалете девочек послышались шаги. Топ-топ-топ – простучали каблуки туфелек по полу, двери отворились, и Тошка, выворачивая голову, увидел Катю. Он сразу же перестал трепыхаться. Замер. В голове сильно и болезненно забился пульс, и Тошка понял, что стал красным, как рак.
Катя Васильева была ему отнюдь не безразлична. Он считал, что влюблен в эту девочку, по мере возможности оказывал ей всяческие знаки внимания и всегда старался предстать перед ней в самом лучшем виде – то курящим на школьном крыльце длинную сигарету (как взрослый), то отчаянно мутузящим своего приятеля Костика Жмыхова. И в таком униженном виде, как сейчас, он еще никогда ей не являлся. От обиды слезы градом посыпались из его глаз, и, чтобы Катя не заметила этого позора, он поторопился утереть лицо плечом, насколько это было возможно в его положении.
Катя увидела его, заинтересовалась. Сделала к нему робкий шажок и остановилась.
– Антошка? – спросила она удивленно. – Что ты здесь делаешь?
– Отдыхаю, – отозвался Антон.
Он хотел, чтобы ответ выглядел весело, с небольшим оттенком язвительности, но в этот миг из глаз снова хлынули слезы, а изо рта непроизвольно вырвался громкий всхлип. Больше сдерживаться Тошка не мог. Такой позор казался ему страшнее смерти и еще больше усугублялся тем, что свидетелем его стала именно Катя.
– Уходи… – выжал из себя Тошка, отворачивая лицо, и если это позволило ему скрыть слезы, то всхлипы, которые непроизвольно вырывались из его горла, скрыть было невозможно. – Уйди, я тебе говорю!
Теперь Катя будет думать, что никакой он не крутой, а обычный маменькин сынок, который по пустякам распускает нюни. Будет так думать сама и еще расскажет своим подругам. Все девчонки в школе будут говорить: «Вот идет Тошка, маменькин сынок, нюня!»
Странно, но именно эта мысль вдруг породила в нем злость. Прошиб холодный пот.
– Уходи! – вместе с отчаянным всхлипом закричал он что было силы.
– Может, тебе помочь? – испуганно предложила Катя. – Ведь сейчас контрольная, ты опоздаешь.
– Не надо мне помогать, я и сам справлюсь! – заорал Тошка, начиная судорожно биться на решетке. – Плевал я на контрольную! Я ему морду набью, гаду толстому! Уходи!
Катя испуганно шарахнулась и бегом устремилась прочь – она впервые видела своего одноклассника в таком бешенстве. А Тошка уже не сдерживался. Он рыдал, заливаясь слезами, задыхался от всхлипов и дергался всем телом, пока пуговицы на манжетах не вырвались с корнем. Затянутый на шее галстук душил, но Тошка развязал его очень быстро и столь же стремительно справился с пуговицами на пиджаке. А вот узлы на шнурках были затянуты так туго, что развязать их не было никакой возможности, но Тошка и не думал возиться с ними. Он упал на пол и дернул ногами с такой силой, что шнурки лопнули.
«Убью, убью! – рыдал Тошка. Он встал на четвереньки, снова упал, снова встал, ринулся в туалет, продолжая всхлипывать: – Убью толстого, изуродую!» Ворвавшись в туалет, он схватил старое грязное ведро, которое уборщица поставила сюда в качестве урны, высыпал из него мусор на пол и поставил в умывальник. До отказа открыл оба крана; вода, грохоча, ударилась о дно. «Ты у меня попляшешь, толстый! Ты меня узнаешь! Ты у меня захлебнешься слезами!»
Наливать полное ведро Тошка не стал – слишком тяжело, а в кабинет, где у семиклассников шел урок биологии, надо подниматься на третий этаж. «Ну, ничего, для тебя, толстый, хватит и половины!» Подхватив ведро, Тошка бросился к лестнице. Слезы продолжали душить его, он все так же всхлипывал, но занимало его сейчас совсем другое – в дне ведра обнаружилась дырочка, и вода вытекала из нее тоненькой струйкой, и надо было торопиться, чтобы успеть донести ее до кабинета биологии. А в школе тишина, лишь изредка доносятся откуда-то одинокие глухие голоса. Вперед, вперед, воды осталось уже не так много…
– Савченко, ты куда? Стой, тебе говорят! – это окрик в спину, и даже оборачиваться не надо, чтобы понять, что это завуч Мария Петровна – обходит свои владения, выискивая прогульщиков. Но на объяснения с ней нет времени – вода вытекает, скоро ее может не остаться совсем.
А вот и восемнадцатый кабинет – «Биология». Из-за двери не слышно ни звука. «Ну, Тошка, вперед, задай этому толстому гаду!»
Тошка рванул дверь и ворвался в кабинет. У доски, перед каким-то расписным плакатом стояла Надежда Ивановна, биологичка. Удивленно, поверх очков, она посмотрела на растрепанного, заплаканного четвероклашку с мятым ведром в руке.
Семиклассники тоже удивленно повернули к нему головы. Кто-то сразу же захихикал, кто-то вставил глупый комментарий по поводу его появления. А вон, на третьей парте у окна, Ирка, даже рот открыла от удивления и ничего не может понять… Ладно, сейчас не до Ирки, ему нужен Бек.
Вот он, Бек, на задней парте. Морда расплылась, глаза превратились в щелочки, желтые зубы торчат наружу… Мерзкая такая физиономия, наглая, от ее вида обида вспыхнула с новой силой. И слезы снова хлынули. Но теперь ему уже все равно, ведь Катя его уже видела…
С громким рыданием Тошка кинулся к Беку и, выкрикнув на ходу: «Получи, гад толстый!», опрокинул ведро ему на голову.
И остановился, сквозь слезы любуясь содеянным. В эту минуту он испытывал настоящее блаженство, наблюдая, как отвратительная улыбка на лице Бека сменилась сначала катастрофическим непониманием происходящего, затем – растерянностью, которая вполне могла бы вызвать жалость, если не продолжала кипеть в груди густая злоба, и только потом на ненавистном лице появилось выражение обиды. Бек привык чинить свои издевательства в одиночестве, и, будь они с Тошкой сейчас один на один, он и мокрого места не оставил бы от наглого младшеклашки. Но здесь, среди почти трех десятков своих сверстников и на глазах у учителя биологии, женщины строгой, но справедливой, он не знал, что предпринять. Поэтому он просто сидел, глупо моргал и молчал.
А потом семиклассники начали смеяться. Они не знали, что может означать эта странная сцена, но выглядел Бек в эту минуту таким смешным, что удержаться было невозможно. Даже Надежда Ивановна, ахнувшая сначала: «Что все это значит?», и та не смогла сдержаться. Закрывая лицо руками и вздрагивая от смеха, она опустилась на стул.
Бек кинулся вон из класса. Глядя на него, могло показаться, что он вот-вот расплачется, а может быть, он и плакал, но ручейки грязной воды, все еще текущие по его лицу, не давали этого разобрать.
А Тошка вдруг почувствовал, что злоба улетучилась. Исчезла в одно мгновение, ее место заняло ощущение полного отмщения, и это было очень приятно, он счастливо улыбался, покидая кабинет биологии. Только что он в одиночку справился со страшным Беком, выставив против его тупой наглости свою бешеную злость. И злость победила. А это стойло того, чтобы пропустить контрольную…
Из этого случая Тошка сделал для себя вывод: злоба – страшное оружие, если находится в умелых руках. Только надо правильно ею управлять и уметь определять ту ее минимально необходимую дозу, которую необходимо выплеснуть из себя в настоящий момент. А уж к людям, которые владеют этим искусством, относятся с опасливым уважением.
«Надо уметь злиться, – частенько повторял себе Тошка с того дня. – Если ты не умеешь злиться – ты ничто…»
– Брага, – сказал Костик. – Из рябины, целое ведро. Отец поставил ее две недели назад, сейчас она уже должна быть готова. Можно пить.
Тошку охватило волнение. Он всегда волновался, когда собирался сделать что-нибудь в первый раз. Точно так же было, когда он впервые взял в руки сигарету. Но спиртного он еще не пробовал никогда. Было жутко интересно, но в то же время страшно – он не раз видел своего отца в пьяном состоянии, и его всегда интересовал вопрос: зачем человек собственноручно, с энтузиазмом вливает в себя эту вонючую жидкость, если наперед знает, что на следующее утро будет страшно страдать? Значит, есть в алкоголе нечто такое, что превыше грядущих страданий? Но что это такое? И как оно проявляется?
Однажды он поинтересовался у отца, что чувствуешь, когда пьешь спиртное, и получил странный ответ: все видится в розовом свете. Такое объяснение показалось ему не совсем понятным: почему именно в розовом? Чем розовый лучше остальных? И что, в конце концов, в этом приятного? Нет, объяснение отца его не удовлетворило, и он твердо решил при первом же удобном случае выяснить этот вопрос самостоятельно.
И вот случай представился – у Костика есть целое ведро «рябиновки», и родители на работе…
– Но есть проблема, – сказал Костик.
– Что за проблема? – сразу насторожился Тошка.
Наличие проблемы не входило в его планы. Он не хотел быть пойманным за руку в момент употребления браги Костиного отца. Если этот факт станет достоянием общественности, то это может превратиться в ЧП общешкольного масштаба, а Жмыхов-старший за свою драгоценную брагу может и уши надрать.
– Словами трудно объяснить, – сказал Костик. – Лучше пошли ко мне, сам посмотришь.
Друзья немедленно направились домой к Костику, где на кухне извлекли из-под стола большое эмалированное ведро и сняли крышку. Ягодно-дрожжевой дух резко ударил в нос, Тошка поторопился отдернуть голову. Однако он сразу поют, в чем именно заключалась проблема. Ягоды в ведре всплыли выпуклой оранжевой «шапкой» и высохли, так что о том, чтобы извлечь жидкость из-под нее, не взбаламутив «шапки», не могло быть и речи. А если Жмыхов-старший обнаружит, что его драгоценностью кто-то пользовался, – будет скандал.
– Что будем делать? – насупившись, спросил Костик.
Тошка быстро соображал. Сдаваться из-за какой-то там высохшей ягоды казалось ему постыдным, тем более что кое-какие мысли у него уже появились.
– Нужен шланг, – сказал он. – Желательно резиновый и не очень толстый.
Костик моментально понял, что хочет предложить его сообразительный приятель. Резиновый шлангик они отыскали в медицинской аптечке, осторожно по самому краю ведра опустили его в ведро, стараясь не перемешать ягоду, потом Тошка ртом затянул в шланг бражку и опустил конец в заранее приготовленную двухлитровую банку. Содержимое ведра заметно уменьшилось, хотя «шапка» по-прежнему оставалась сухой и нетронутой. Затем друзья таким же способом закачали в ведро недостающие два литра воды из-под крана, поставили банку в пакет и поторопились покинуть «место преступления».
Теперь необходимо было найти место, где можно было не спеша и без боязни опустошить заветную банку. Было страшновато, но в то же время им не терпелось перейти прямо к делу. В конце концов друзья отправились в парк, на свою потайную поляну, со всех сторон окруженную густым кустарником.
– Пить будем здесь, – сказал Тошка, выставляя банку. – Но только сперва нам надо дать клятву…
– Какую клятву? – удивился Костик. – О чем?
– О том, что когда мы напьемся, то не будем орать песен и драться.
– А почему ты решил, что нам захочется орать и драться? – еще больше удивился Костик.
– Не знаю, но мой батя всегда орет, когда пьяный, а твой дерется. Вот мы и поклянемся, что не будем такими.
Костик не видел необходимости в такой клятве, но раз Тошка настаивает… Мальчишки произнесли торжественную клятву, разлили брагу по стаканам и, трепеща от волнения, опустошили их.
– Сладкая, – сказал Тошка, морщась. – И резкая, как лимонад… А в общем-то ничего, вкусная. Не знаю, почему ее не разрешают пить детям. Ничего такого в ней нет.
– Да, – согласился Костик. – Надо будет пацанам рассказать, а то они наверняка еще не пробовали. Если бы ее у нас было много, мы бы ее каждый день пили, перед школой.
– Конечно, – согласился Тошка. – Такую вкуснятину можно пить, не отрываясь…
Однако уже через несколько минут их мнение слегка изменилось. В том состоянии, в которое они пришли, выпив меньше половины банки, в школу их вряд ли бы пустили. Наконец Тошка понял, что значит видеть мир в розовом свете. И в первые минуты это ему очень понравилось. Весь мир был чудесным. Чудесной была эта полянка, где они с Костиком любили уединяться, чудесны были кусты вокруг и мятая трава под ногами, чудесно весеннее солнце, теплое и ласковое, а уж о друге Костике и говорить нечего – это был тот самый человек, которому можно доверять, как самому себе, который никогда не предаст и всегда придет на помощь в трудную минуту… Что и говорить – лучший друг… Правда, Костик? Ведь мы друзья с тобой? Тогда давай обнимемся, друг, – крепко, как мужики, ведь ничто не может разрушить нашей мужской… ик… дружбы… А теперь давай споем… Ерунда, мы клялись про другие песни, а с тобой мы будем петь нашу, любимую…

