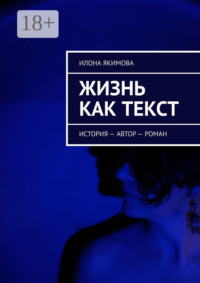
Жизнь как текст. История – автор – роман
Кроме умения работать с историческими источниками, умения извлечь зерно истории из плевел бытовых подробностей, Евгений Викторович упоминает совершенно, на мой взгляд, неформулируемую вещь. Чему и почему мы, читатели, верим в историческом романе? И какая степень веры более полная – вера в историческую правду или в правду художественную? И каким образом осуществляется магия сотворения книги, как бы рожденной в те века, о которых идет речь в тексте, рожденной не нашим современником, а человеком минувшего? Нет тут однозначного ответа.
Вот что говорит Тарле о Пушкине:
«Очарование „Капитанской дочки“ таково, что вы все можете наизусть знать ее, и знать великолепно всю историю создания „Капитанской дочки“, и вам всё равно будет казаться, что Пушкин в самом деле нашел где-то в дворянской усадьбе эти записки и только издал их и снабдил эпиграфами, а остальное – это не его».
Для меня первейшее место на шкале оценке мастерства автора и занимает этот вариант – когда текст кажется порождением автора своего, не нашего века. Что для этого нужно? Очень тонкое чутье к материалу – и «вживаться любой ценой». Тарле прямо говорит о том, что нужен высочайший талант, чтобы выдать текст, как бы происходящий из эпохи («Капитанская дочка»), а вот Толстому касательно «Войны и мира» он в этом эффекте отказывает. Толстого Тарле ценит за то, что тот создает мощную, реалистичную художественную правду романа, настолько сильную, что Тарле ставит ее вне и выше правды исторической:
«…У Толстого есть какая-то своя правда. И могучая ее сила такова, что вам становится ненужным исторический Кутузов, вам нужен толстовский Кутузов. Ведь пережившие Бородино Вяземский и Норов в один голос свидетельствуют, что вовсе не так всё шло. Но вам до этого нет дела. Толстой дал вам свое Бородино, и он душу этого Бородина открыл и запечатлел на веки вечные».
Тарле как историк прощает Толстому за достоверность правды художественной недостоверность правды исторической.
Высший сорт – написать книгу, как бы происходящую из эпохи. Первый сорт – так использовать избранные факты, чтобы художественная правда перекрывала собой правду историческую. Чтобы читатель, не зная по теме ничего, верил тебе, что так и было. Сорт второй – чтобы, опираясь на историчную трость, книга стояла, тем не менее, на своих двоих. Иные сорта книг употреблять вредно, они вызывают у развитого читателя изжогу.
Здесь, в жанре, нужны энциклопедические знания, мощный аналитический ум и нерядовой талант. И проседание по любому пункту сразу очень опрощает произведение.
Так что написание исторического романа – в каком-то смысле высшая форма нервной деятельности в писательстве.
Лента Мёбиуса
«Мы не выбираем времена. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас», – сказал Джон Р. Р. Толкин устами мага в величайшей книжной легенде XX века. Жизнь движется по восходящей спирали, к апексу, теряющемуся в глубинах вселенной. Оттуда, сверху, нет никакого ответа на наши воззвания, кроме цифры 42. Человечество менее всего расположено учиться на своих ошибках, однако писатели все еще предпринимают попытки сформулировать жгучую истину так, чтобы дошло – ненависть не созидает. Во времена, отданные ненависти, единственным способом сохранить себя является неустанное созидание.
Ян Парандовский, «Алхимия слова», введение написано автором в 1955 году ко второму изданию книги:
«Вскоре я поймал себя на том, что непроизвольно делаю заметки о прочитанном или же записываю собственные наблюдения и соображения о труде писателя. В один прекрасный день я начал все это собирать – все эти разрозненные листки, старые конверты, обрывки бумаги – и складывать в специальную папку. За несколько лет папка сильно распухла, это было как раз перед самой войной. Она, разумеется, осталась у меня дома, когда я из него вышел в сентябре 1939 года, и вряд ли кого удивит, если я признаюсь, что в те минуты я не думал ни о каких папках и бумагах. И только в горьком 1941 году мне подвернулась общая тетрадь, в которой я не спеша начал располагать и обрабатывать накопленный материал, уже совершенно определенно помышляя о книге. Мне еще не были ясны ее размеры, но я допускал, что напишу каких-нибудь сто – сто двадцать страниц. К первой черновой тетради прибавилась вторая, и я уже не расставался с ними во время своих странствий в годы оккупации. И они сохранились, а останься они в Варшаве, разделили бы участь всех моих книг и рукописей.
После войны «Алхимия слова» совершила со мной путешествие по Швеции, Норвегии, Франции, не один час провела в Королевской библиотеке в Стокгольме и в Национальной библиотеке в Париже – она росла буквально на глазах. По возвращении в Польшу она прошла своеобразную проверку: используя эти записи, я прочел курс лекций в университете. Это был важный этап для будущей книги. В записях любой вопрос излагался сжато, иногда всего в нескольких словах, в лекции же он разрастался, обрастал деталями и подробностями, они порождали новые вопросы, для меня становилось ясно, чему следует посвятить больше внимания, к некоторым проблемам я возвращался в дискуссиях и на семинарах.
Я уже давно расстался с черновиками, работа была переписана на машинке, сорт и формат бумаги для разных глав попадался разный, точно так же как и форма букв, все это будило воспоминания о странах, городах, улицах: то возникал Вигбюхольм, пахнущий соснами и лавандой, то Сен-Мишель и осенние деревья Люксембургского сада, а то и тихий, заснеженный Люблин.
И вдруг эти листки подхватил весенний ветер. По просьбе разных журналов я подготавливал отдельные фрагменты и поочередно их публиковал – давая каждому название, соответственно «закругляя» его. Через год я уже не узнавал свою книгу. Ни один из первоначальных разделов не сохранил прежнюю композицию; нередко один находил на другой, а иногда какая-нибудь прожорливая часть выедала внутренности раздела, с нею не связанного и отдаленного от нее; не обошлось без включения совершенно новых не то разделов, не то глав, которые в первоначальном плане не были предусмотрены.
Я не знал, что со всем этим делать. Велико было искушение, столь частое в моей писательской практике, сесть и все переписать заново. Но я не мог позволить такой роскоши – книжка через два месяца должна была быть в типографии. Стояло лето, и кипа листков, большей частью состоявшая из газетных вырезок, выехала вместе со мной на каникулы. Небольшой меланхолический городок Устка запечатлелся у меня в памяти вереницей дней, проведенных над сшиванием разрозненных листков – «Алхимии слова». Здесь окончилось длинное странствование этой книга, и спустя несколько месяцев она вышла из печати».
Никогда бы не подумала, что Парандовский будет все так же актуально звучать 30 лет спустя того, как книга попала мне в руки с полки библиотеки. Вместо публикации в журналах – посты в блоге, а так все то же самое. Мир сменяется войной, война сменяется миром, жизнь никогда уже не будет прежней, какой мы помним ее, но в ней должно остаться место тому, как писать книги.
Кому нужна история?
Никому. Точней, двум категориям граждан – историкам и маргиналам вроде меня.
Историю на самом деле никто и не любит, уж слишком она правдоподобна. Потому и место ее в сознании читателя с успехом занимает фентези. А фентези – это вам не жизнь. «Она приглажена, причесана, напудрена и кастрирована» (Григорий Горин, «Тот самый Мюнгхаузен»). Ни общественности, ни государству история в чистом виде не нужна, она, история, непристойно неоднозначна. Она травмирует – эта рубашка слишком близко к телу, она не допускает казаться самим себе праведными, непогрешимыми. В ней нет ласковой отдаленности фентези классического и карманных страхов фентези темного, здесь никакой волшебник в голубом вертолете (масть дракона подставить на выбор) не прилетит, чтоб вмешаться в безвыходное положение в единственный для того пригодный момент. В истории, реальной истории, персонажу и отождествившемуся с ним читателю приходится выпутываться самим. Современники любят сказки – не смею осуждать за это – но не извлекают из них урока. Любить сказки ради самих сказок, а не ради передаваемых ими элементов понимания мира, может позволить себе культура либо крайне развитая, понявшая себя и потому безопасная, беззаботная, либо пребывающая в состоянии распада, утратившая культурный код. Если писать о минувших веках – эскапизм, то что же тогда значит подменять истинную историю альтернативной, реальных людей своего времени – попаданцами в чужое?
Реальная история, переданная для современников современным языком, имеет уникальную ценность познания – как чуждой культуры, так и чуждого времени – и обучения, дает читателю возможность развития через рассмотрение и понимание ценностей, отличных от ценностей современного мира. И мир вокруг человека расширяется многократно. Реальная история дает возможность примерить на себя настоящее, не воображаемое платье короля – и его же гильотину.
Почему исторический роман? Так мне казалось проще: не нужно придумывать сюжет. Сейчас, после пяти томов исторического романа это «казалось проще» уже кажется и вовсе даже не смешным. Случайно, как за горячую кочергу, я схватилась за один из самых сложных жанров в прозе – железо прилипло к коже, отодрать можно уже только с мясом.
Но, взяв эту планку, пробовать другие жанры оказалось действительно проще.
Внезапно, да.
Постулаты мастерства
В историческом романе нет ничего исключительного, кроме работы со временем, что бы существенно отделяло его от реализма как такового. Временные рамки и колорит эпохи, – граничные условия текста, – не извиняют погрешности в построении сюжета. То, что в книге изложено всё, накопленное непосильным исследовательским трудом, не освобождает от необходимости писать увлекательно. Скорей, наоборот – только владея динамикой повествования, населив его живыми героями, вызывающими ощущение «про нас про всех, какие, к черту, волки», можно увлечь читателя куда угодно, в любое время, в любой век – как к себе домой.
Что можно отнести к непременным навыкам мастера исторической прозы?
Чистый четкий слог. Речь – рабочий инструмент, недопустимо знать язык, на котором пишешь, посредственно, вполсилы. Это в равной степени относится как к книгам, в первую очередь, так к любым публицистическим текстам, в том числе и продающим, написанным для продвижения. Дурной язык, посредственный стиль писателя тождествен личной нечистоплотности обычного человека.
Словарный запас. Нарабатывается годами, проведенными в писательстве, и центнерами прочитанных книг. Книг, подчеркиваю, классической и современной литературы, а не сетевого контента любой направленности. Нет, по-другому никак.
Владение диалогом, драматургическая жилка в писателе. Настоящий диалог, диалог, который захватывает, не имеет ничего общего со школьным «чтением по ролям», встречающимся в книгах куда чаще, чем хотелось бы. Умение писать диалог есть умение передать максимум эмоции и информации минимумом изобразительных средств. Для наработки навыка помогает чтение, а лучше и опыт написания пьес.
Чутье темпа текста, динамики повествования. Время в тексте течет совсем не так, как в окружающей действительности. И знание, где прибавить, где отнять – дар для писателя крайне ценный. Иногда для того, чтоб не терять темп истории, допустимо пропустить год, иногда требуется расписать сутки героя чуть ли не поминутно – но читаться то и другое должно слитно, неразрывно, гладко.
Умение искать, отбирать, усваивать, структурировать информацию и выделять главное. Для писателя любого жанра это ценный навык, но для исторического романиста – базовый. Сюда же идет умение выстраивать причинно-следственные связи – в историческом тексте обычно приходится увязывать множество разрозненных фактов в единую стройную схему. Нет главы, которая была бы как остров (перефразируя Джона Донна).
Жизненный опыт. Нарабатывается временем жизни, и сократить путь, срезать дорожку опять-таки не получится. Смешно, но сейчас я почти готова согласиться с постулатом, слышанным в юности, крайне тогда меня разражавшим: мол, великая наглость автору браться за крупную форму до сорока, а то и пятидесяти собственных лет. Не то чтобы это действительно наглость и моветон, но некий смысл тут есть. Писательская молодежь легко, свободно блеснет свежестью чувств, этого не отнять, но вот для достижения глубины текста нужно кое-что прожить, понять на своей шкуре. Буквы потом будут вроде все те же самые, те же слова, но слог пойдет весомей и плотнее. В противоречие с этим допущением вступает следующий пункт.
Азарт наглеца. Тут надобно удержаться на тонкой грани между отчаянной смелостью начинающего и косностью пожившего. Идеально было бы всякий раз начинать книгу, как в первый, попирая границы прежнего опыта, но не вовсе отрываясь от почвы. Собственно, такое происходит с писателем любого жанра – когда возникает необходимость выйти из наработанного амплуа. Пример тому – великолепный Ромен Гари в маске Эмиля Ажара. Его (их) история отлично иллюстрирует, насколько богато, сочно выглядят мастерство и жизненный опыт в фантике нахальства начинающего писателя.
Художественный вкус. Умение здраво, критически оценивать результаты своей работы, четко проработанный взгляд со стороны. Ничем, кроме опыта, практики, времени, тут тоже не поможешь. Впрочем, ряду авторов успешно помогает внимательный, чуткий редактор или узкий круг бета-ридеров.
Потребность рассказать историю во что бы то ни стало, отвоевать у вечности еще одну жизнь. Потребность рассказать историю в той или иной степени есть у каждого автора, у писателя исторического жанра она неслабо замешана на специфических чувствах причастности к чужому бессмертию – изначально, к творимому тобой бессмертию – прямо сейчас. Акушерство наоборот, они уже умерли, но ты помогаешь им повторно родиться. Реанимация, если угодно, контакт с потусторонним. Если вас зацепило это ощущение, то уже не отпустит – и работа пойдет легче.
Ну, и поистине asal iarainn, pardon my gaelic. Времени на свою работу вы затратите вдвое (оптимистичный прогноз, на самом деле, куда больше) сравнимо со счастливчиками, творящими в иных жанрах, потому что исследование материала займет не менее двух третей от срока создания книги. Длительность работы с источниками индивидуальна, это уж как вам совесть подскажет, но по моему скромному мнению, на этой дистанции выигрывают убежденные архивные крысы, а не журналисты.
Кстати, да. Историческая проза – это прежде всего проза. То, что вы пишете информативно, наполненно, не снимает с вас ответственности за текст, за его структуру, грамотность, музыку фразы. То, что в перечне действующих лиц присутствуют короли и графы (равно как кузнецы и свинопасы), не значит, что их следует вырезать из картона. Ни один читатель не согласится добровольно жевать картон.
«В прозе можно влиять на восприятие читателя качеством слова не менее, чем в поэзии, – окраской слова, музыкой, ритмом речи, ее строем. Я говорю пошлые вещи, но говорю потому, что мне кажется, Вы не всегда придаете своему орудию должное значение. Надо больше увлекаться самим письмом» (Константин Федин – Константину Симонову).
К сожалению, не слишком большое число авторов обращает внимание на столь пошлые вещи. Полировать следует не только алмаз души своей, но и стиль – как шпагу.
И последнее. Как-то меня спросили, что делать, чтобы научиться писать? Научиться писать можно только одним способом – регулярно писать и критически работать с написанным текстом. Других способов не существует. Надо именно, по выражению Федина, увлекаться письмом, причем, на постоянной основе, не дожидаясь пресловутого вдохновения. Парандовский в «Алхимии слова» приводит цитату из Стендаля: «Я не начинал писать до 1806 года, пока не почувствовал в себе гениальности. Если бы в 1795 году я мог поделиться моими литературными планами с каким-нибудь благоразумным человеком и тот мне посоветовал бы: „Пиши ежедневно по два часа, гениален ты или нет“, я тогда не потратил бы десяти лет жизни на глупое ожидание каких-то там вдохновений». Если уж это сгодилось для Стендаля, сгодится и нам.
Не надо дожидаться момента, когда почувствуешь себя гением.
Его можно не дождаться вообще.
Есть ли вам, что сказать миру?
Есть такие темы, которые, коли ты давно в литературе, попадаются на твоем жизненном пути с изрядной периодичностью, как те говны на коровьем выгоне. Я сейчас о посланиях новичкам, как то «прежде чем писать, подумайте: есть ли вам что сказать миру?» и «если можешь не писать – не пиши». А я, знаете ли, пишу с двенадцати лет, публикуюсь в бумаге с восемнадцати, навидалась не в интернете, а в реальности различных писателей и поэтов, и мне таки есть что сказать на тему их посланий новичкам.
Редкая ерунда и то, и другое пожелание, обращенное от автора пишущего автору начинающему. И вот почему. Оба выражения имеют исток в 1) ощущении писательства как высокого жречества (условно), мастерства, которое нужно хранить от непосвященных; 2) кастовости профессии писателя, которая «не для всех»; 3) представлении о писателе как о первопроходце, обладающей непременно полезным для общества эффектом (тут, кстати, следует дальнейший диспут о том, делить ли литературу на серьезную и развлекательную, и какая из них настоящая, но об этом чуть ниже).
Откуда есть пошла русская земля? В смысле, откуда пошла эта непременная уверенность, что писатель не только способен, но и должен всегда говорить нечто новое миру? Что он – мерило нравственных норм и кладезь высокого ума, после прочтения книг коего читатель просто обязан не только развиться умственно, но и стать выше, чище, сделаться исправленной версией себя? Эта мысль зародилась в обществе на рубеже XVIII – XIX веков, и не была столь уж нелепа. К этому времени уже стало понятно, что религия на инструмент улучшения природы человеческой больше не тянет от слова вообще. Промышленная революция и просвещение – вот два столпа, на которых планировалось воздвигнуть новый мир, полный новых людей. И да, идея о том, что человек порочен от неразвитости, а предоставь ему образование – и он избавится от пороков, – та идея была тоже до некоторой степени рабочей. Кто же должен был заниматься просвещением общества? Писатель, вы угадали.
Социальная роль литературы во все века была весьма мощной – от памфлетов до романов-жизнеописаний, в которых нам показывали, как не надо – сюда и плеяда французских реалистов, и Федор Михайлович с топориком, и Лев Николаевич с глубоко беременной Наташей. Это все социальная литература, имеющая конкретную цель – при помощи слова порефлексировать вслух о пороках общества и путях его развития. Цель, которую легко упустить из виду, поймавшись на эмоции, возникающие к персонажам, или красоты слога. Писатель тогда априори был редкий, весьма образованный зверь, которому – сравнительно с общей массой читателей – таки было, что новое сказать миру… а если и не совсем новое, то привлечь внимание к старым язвам, которые потребно искоренить.
Но времена меняются. После Чехова было две мировых войны, революция, Хиросима и развал Союза – самой читающей страны мира. Среднее образование, вчиняемое в СССР повсеместно и с успехом, сыграло с писателями злую шутку – сократился разрыв в уровне образования типичного писателя с типичным читателем. Пьедестал морального гуру стал понемногу снижаться, но заметили это не все. Автоматическое тождество образования и высокого морального облика тоже, как та повязка на ноге, сползло. Прошло еще 30 лет после Союза, и наконец понемногу, очень понемногу прекращают раздаваться голоса, оправдывающие талантом любое скотство известного писателя. Талант перестает работать как индульгенция на всё – и слава Одину. Дивный новый мир современности таков, что писатель в нем – больше не жрец искусства, вознесенный на Олимп за высокую образованность и умение выражать свои чувства в слове. В настоящее время писатель – это просто тот, кто умеет писать. Умеет на качественном (и количественном) уровне, потому что даже «живу на гонорары» сейчас не критерий для определения профессионализма писателя. Меняется и роль литературы – в сторону не просвещения, но развлечения, убийства времени между работой и домом, работой и работой, домом и сном (Эрик Бёрн называл это культурней, «потребностью в структурировании времени»).
Но мало того, что мы не можем сказать ничего принципиально нового, так как аудитория стала куда просвещенней за эти два века, так еще и мы не можем сказать ничего нового вообще. Ветхий завет дает широкое поле – чуть ли не всеохватное – страстей и сюжетов, а сколько было сюжетов в литературе до Ветхого завета? Всё, на что может претендовать современный автор – пересказать старую сказку на новый лад (кстати, в этом и секрет успеха. Ну, при соблюдении еще кое-каких условий, разумеется). Если же понимать под новым новую эмоцию, вызываемую текстом, то тут поле еще более ограниченно – базовых эмоций сколько? По Экману семь. Даже в комбинациях список будет исчерпан очень быстро. Тогда что остается? Стиль. Собственно, это и есть то, на обретение чего люди тратят десятилетия, и чем в литературе они отличаются друг от друга.
Так что маститый автор, говорящий новичку: «не можешь сказать ничего нового – не пиши, плети фриволите», либо хам, либо лукавит, либо просто глуп. Но новички – порода хрупкая, и могут воспринять этот «совет» за чистую монету. Кроме того, примем во внимание факт, что запрет писать потому, что ничего нового не можешь сказать сейчас, так же нелеп, как выкидывание в пропасть хилого новорожденного младенца, потому что из него ничего хорошего все равно не вырастет. Если бы в Германии XVIII века действовали законы древней Спарты, в эту пропасть улетел бы, к примеру, Гёте. Не можешь сказать ничего нового сейчас? Ну, десять тысяч часов, десять тысяч ли, десять тысяч перепиленных лобзиком гирь (потому что они золотые) – и вуаля, сможешь сказать что-то новое. Возможно. Или, в крайнем случае, точно сможешь грамотно изложить свои мысли на бумаге.
C «новым» разобрались. Теперь переходим к «Не писать? Не пиши!».
Здесь речь пойдет о кастовости писательской профессии и о том, разумен ли такой подход нынче. Если вкратце, интернет, самиздат, печать по требованию обрушили эту самую кастовость на уровень плинтуса (а кое-где и ниже). Профессия писателя – с профсоюзом, с благами, с грантами и квартирами – профессия, за которую нужно было биться (и большинством своим пасть в честном бою), по факту отошла в прошлое с развалом Союза. Тиражи не решают – сетевой автор в топе бьет любые бумажные тиражи. «Живу на деньги от продаж книг» не решает – на эти деньги живет и та, что «беременна от троих драконов», и нагибатор гарема кошкодевочек. Лауреат литературных премий – гхм, да и это не решает тоже (говорю это как лауреат литературных премий, и как человек, находившийся в жюри премии). На вопросе «кого считать настоящим писателем» сломано столько литературных копий, что хватило бы на все погребальные костры всех скандинавских конунгов, воскресни и умри они снова, поэтому воздержусь декларировать и озвучу собственную позицию. Когда снимаешь покров «святости», «жречества», «призвания» с писательского ремесла – становится ясно, что писательство, как любое ремесло, это просто очень много труда, практики и образования. И всё. Но это «и всё», собственно, и определяет качество конечного продукта. Социальная значимость писательства в настоящее время в его психотерапевтическом эффекте для автора. А если автор достаточно умен и талантлив, то и для читателя тоже.
Я всегда за любой кипиш, кроме голодовки. Человек, который вместо того, чтобы увеличивать энтропию вселенной разрушением (насилие, вещества, селфхарм, подставьте сами), садится и начинает писать, достоин с моей стороны всяческого сочувствия и поддержки. Язык, речь – инструмент психотерапии, самотерапии огромной силы. Если писатели XIX века выбирали своей целью язвы общества, то наша цель – наши собственные язвы, которые и открываем в прозе, как умеем. Открываем-открываем, даже если и прикрываемся травмами героев.
В восемнадцать лет я думала, что мне есть, что сказать миру, и была не так уж неправа. Каждый человек уникален, и уникален мир, существующий внутри него, и никто не расскажет об этом мире внутри вас – и вашем восприятии мира снаружи вас – так, как вы. В этом смысле только вы и можете сказать миру нечто новое. И однако, если дать себе труд присмотреться к окружающим, становится понятно, что в каждом из них запрятан тот самый уникальный мир, который жаждет выражения, но лишен средств выражения… В двадцать пять я уже поняла, что всем вокруг есть что сказать миру, просто не все умеют. В тридцать я уже точно знала, что в своих страданиях об мир уникальна примерно так же, как любая из моих сверстниц (и миллионов женщин, живших в разные века до меня). В сорок семь я честно говорю, что писательство для меня есть способ улучшения мира путем угоманивания собственных демонов. Кроме того, писатель может стать голосом чужих миров, помимо собственного, и в этом его уникальность, и в этом его предназначение. Говорить за тех, у кого нет слов, как за себя.

