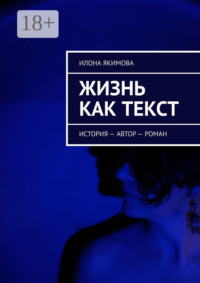
Жизнь как текст. История – автор – роман
И вот этому всему я должна была бы сказать «можешь не писать – не пиши?».
Литература здорового человека отвечает за здоровье отдельно взятого человека, автора, и не надо гордыни, выраженной в поиске, что бы такого эдакого сказать миру. Мир, поверьте, и без вас такого понаслушался за свою историю, что совершенно спокойно снесет и ваше молчание. Миру наплевать. То, что пишет автор, важно только самому автору. Больше смирения, коллеги – и тогда внезапно открываются возможности говорить что-то, важное еще кому-то кроме тебя.
«Улыбайтесь, господа. Серьезное лицо – еще не признак ума». Не стоит отдавливать себе руки пьедесталом памятника Толстому, раз уж вам после него не сказать ничего нового. Зато вы можете сказать свое.
При наличии кротовьего упорства, гранитной задницы, хваткого ума и адского, адского, адского желания даже забесплатно пахать на этих галерах.
Когда вам есть, что сказать миру
А что делать, если вам сразу же есть что сказать миру? Вот вы впервые положили руку на клавиатуру и чувствуете – горит оно, новое, в кончиках пальцев, горит. Ажно жжет. Спойлер – убрать руку с клавиатуры.
Понимаете, тут такое дело. Вспомните самое пьянящее ощущение в своей жизни от того, что – вот вы раньше не умели (ходить на лыжах, прыгать с трамплина, кататься на коньках, нужное подчеркнуть), а теперь вдруг можете, можете! Зафиксировали в памяти? Так вот, когда начинающий писатель впервые понимает, что способен вполне внятно передать словами свою мысль…. О, это ж все равно, что дотянуться до архимедова рычага, сейчас я точно переверну мир! Хорошо, что мир довольно плотненько стоит на своих трех китах и не колышется от попыток начинающих писателей.
Начинающий писатель, как правило, в силу ряда причин (как то недостаток образования, практики и/или жизненного опыта) не в состоянии оценить уровень наносимой им миру новизны и необходимость той самой новизны в этом мире кому-нибудь, кроме самого автора. Отсюда случаются печальные моменты, когда новичок очень горд тем, что сел на велосипед, а на него с пониманием (а где-то и с состраданием) посматривают ветераны Тур-де-Франс. Те-то порядком могут порассказать новобранцу про отбитую задницу. Поэтому если в начале творческого пути вам вдруг кажется, что вы что-то новое можете сказать миру – скорей всего, вам именно кажется. Эволюционный путь таков: вам кажется, что вы можете сказать новое миру; вы говорите банальность, мир не обращает внимания; вы замахиваетесь на великое дело и отбиваете писательскую руку; в результате травмы в процессе восстановления обретаете некоторое смирение и понимаете, что прежде чем сказать что-то новое миру, над открыть это новое в себе (а отнюдь не в мире) … повторяете цикл. И так дальше живете много-много лет (и книг) подряд, прежде чем начнете чуть-чуть понимать мир и уметь выразить. Нет, не его выразить – себя, свое видение мира. Небольшое, но гуманное, честное и оригинальное. Вот это и можно считать новым, привнесенным вами в литературу – человеческий документ, облаченный в стиль. А сюжеты, как и персонажи, архетипичны. От них новизны не дождешься. Как раз умение выразить новыми словами вечные ценности, с моей точки зрения, определяет писателя как писателя. Но выражать те самые ценности писатель учится всю жизнь, и должен накопить огромный писательский и человеческий жизненный опыт, прежде чем его самовыражение сможет претендовать на «великие темы», новизну, просвещение и далее по тексту.
Теперь по поводу того, почему Шекспир мог найти новизну и ее выразить, а Пелевин уже не с той борзостью это может. Потому что очевидный зазор, в который это новое может втиснуться в современной культуре, сокращается с каждым днем. Конечно, открываются новые кластеры, но чтобы их найти, надо быть не только писателем, но и философом (и уж никак не новичком в том и другом). Отличный пример философского подхода – Станислав Лем, который, по моему ощущению, куда больше философ и социолог, чем фантаст. Та же беда и с просвещением. Я по поводу своих книг совершенно точно решила, что это книги для тех, кому не лень пользоваться поиском в интернете. Потому что, да, я занимаюсь просвещением путем изображения условно достоверной исторической эпохи (например). При всем том, это приключенческая, по факту, развлекательная литература. Но и возможность заниматься в литературе просвещением для авторов также сокращается с каждым днем (благодаря тому же поиску в интернете). Те, кто хотят усваивать новые знания, сейчас усваивают их (в основном) не из художественной литературы – 300 лет назад такой возможности попросту не было, научные публикации предназначались для небольшой, но широко образованной части населения, а вот романы читали все, умеющие читать. Поэтому, будем откровенны, в настоящий момент литература давно уже не несет факела просвещения, что, конечно же, не запрещает вам затеплить, как сказать, свою свечу над трясиной бульварщины. Чем некоторые мастодонты, самозародившиеся/недовымершие в хвощах, и занимаются без особого успеха своей миссии.
Личность автора, отраженная в тексте
Есть эксгибиционизм, и есть жертва огню. Читатель сам решит, идет ли речь об эксгибиционизме или о горении (Ромен Гари, «Ночь будет спокойной»).
Самый нелепый вопрос, который можно задать – как я дошла до жизни такой. Потому что я такой и была. Не помню в себе момента меньшей способности к самовозгоранию, разве что с возрастом выучила, где лежит огнетушитель.
Автор проступает незаметно даже и там, где, казалось бы, нет ничего личного. С этим просто надо смириться, с невозможностью убежища в языке. Ты все равно видна насквозь, но куда легче, когда любопытные влагают персты не в твои раны, но в изъяны твоего персонажа. Легче, проще оправдаться – это не я – но кого это обманет? Я, как правило, ссылаюсь на Флобера, ему не стыдно было быть госпожой Бовари. Госпожа Бовари – это я. Все они, любые Бовари, толпою – тоже я. От каждой и каждого из них болит кусок внутри меня. И обратное тоже верно, моя боль дискретно распределена между всеми моими персонажами.
Самое важное качество писателя – это способность становиться не собой, становиться курицей (снова Гари, снова «Ночь будет спокойной»), то есть, не только иметь способность к эмпатии, но пребывать в активном сострадании уязвимости героя. Однако тут есть опасность слишком уж выстрадаться. Мастерство сохранения собственной души в том, чтобы оставаться проницаемой, но не изрешеченной чужими эмоциями, чужой жизнью.
Писать ли кровью, врубаться ли в персонажа (в читателя) секирой своей любви? Довольно частый вопрос и любимая метафора там, где нужно вменить автору писать «по-настоящему, душою». Писать кровью есть признак высочайшего непрофессионализма. Да и крови не напасешься на все книги, которые планирую я написать. Тождественность писательского труда мученичеству еще никого не доводила не только до добра, но просто до технически приемлемых результатов. Писать можно в блокноте или вот еще при помощи клавиатуры на различных гаджетах. Писать следует, используя интеллект, потому что душа и кровь лишены способности критического анализа. Душу можно слегка покропить кровью на завершающей стадии процесса, при редактуре. Уместно вспомнить героиню романа Моэма «Театр» Джулию Лэмберт – как скверно стала играть великая актриса, как только начала «жить на сцене». И хорошо, что нашелся человек, сказавший ей об этом. Другая, не менее великая, но реально существовавшая актриса Фаина Раневская отвечала на вопрос «А забываетесь ли вы на сцене?» совершенно конкретно: «Милочка моя, если бы я забывалась на сцене, я бы свалилась в оркестр».
Не следует сваливаться в оркестр. Писательство в большей своей части рутина пахоты, нежели трансовое состояние (если говорить именно о прозе, с поэзией ситуация несколько иная). Дистанция между личностью писателя и его текстом не просто желательна, но крайне необходима. И бесконечное отдаление писателя от его текста также невозможно, потому что в тексте мы излагаем авторский взгляд на мир, уникальный опыт, исключительные переживания – но так, чтобы угодить в болевую точку многих и многих. Для спазмированной мышцы, чтоб расслабить ее, применяется как минимум двадцатисекундный по длительности нажим – и в этот момент боль резко усиливается. Точное слово тождественно тому самому нажиму. Транслируя свою боль, ты попадаешь в чужую, чтоб в идеале тебе и читателю полегчало. Авторская личность в художественном тексте работает на то, чтоб уникальное переживание сделать многократно узнаваемым, общим и потому терапевтичным.
В тексте, как в капле воды, содержится микрокосм личности автора – его страхи, тревоги, надежды, радости и привязанности. Но и его душевные болезни также, поэтому гигиена внутреннего мира для писателя вещь первостепенная. Отболтаться не получится, если заразишь и произведение в целом, и читателя своей собственной тьмой. Этого следует избегать. Я за то, чтоб уменьшать энтропию системы, в которой существуешь.
В истории о личности автора, отраженной в тексте, никак не обойдешься без чистого авторского голоса. Ромен Гари, «Письмо к моей соседке по столу». Этот рассказец попался мне, десятилетней, в журнале «Крокодил», и еще долгое время спустя я считала его автора французским писателем-юмористом. Если Гари и юморист, то довольно специфичного толка, каким только может быть польский еврей, дипломат, военный летчик, отец которого погиб в Освенциме, возлюбленная сошла с ума, а мать умерла за время войны. Однако «Письмо» казалось мне (а, прочем, и было) верхом остроумия настолько, что я выучила его наизусть – не подозревая, что тем самым учу конспект моей собственной писательской жизни. Впитываемый нами текст формирует судьбу – не зря же любые магические ритуалы везде, в любой системе завязаны на слово. Еще более того нашу судьбу формирует написанный нами текст. Книги – это вообще серьезно.
– Почему вы всегда такой мрачный? Как будто вам все опротивело. У вас неприятности?
«Всегда» после двух встреч, мне кажется, слегка чересчур. Однако хотелось бы на этот предмет объясниться. Начнем с того, что у меня такая физиономия, я тут ни при чем. Она от рождения. Она снаружи и необязательно отражает глубину натуры.
Вид у меня, как Вы правильно заметили, и правда иной раз такой, будто я мучаюсь зубами. Видите ли, у меня нервная работа. Легко понять: в романе десять, двадцать, пятьдесят героев. Если я выгляжу озабоченным, это означает, что я думаю о своих персонажах. Когда я думаю о себе, я, как правило, помираю от хохота.
/…/
Мадам, я не свинья. Я не открываюсь людям, с которыми едва знаком, вот и все. Вы покупаете мои книги, прекрасно. Но разрешите мне, мадам, остаться по крайней мере в бюстгальтере. Чтение моих книг не дает Вам никакого права раздевать меня, да еще наспех. «В душе вы романтик, да?», «В душе вы нигилист, да?», «В душе вы разочарованный, да?». И все это между сыром и фруктами. Мадам, если бы все это было у меня в душе, я бы давно лег на операцию.
Да, у меня уже тоже теперь такая физиономия. И я бы легла на операцию. Но вряд ли это поможет, месье Гари тут лукавит – двадцать написанных им томов и были операцией, продолжавшейся всю его жизнь. А что она закончилась смертью – так от жизни и вообще умирают. Опровержение было всего одно.
Писательство как психотерапия
Психотерапией Средневековья были исповедь и ритуал, человек современности, к счастью, волен выбирать. Творчество, писательство – вполне приличный способ психотерапии. Есть у тебя проблема – отдай ее персонажу. Есть у тебя радость (что реже, ибо радость не настолько требует выбалтывания, как проблема требует выбаливания) – отдай ее персонажу, ликуй, зафиксируй, чтоб было, что вспомнить. Я – человек слова, формулируя, я нахожу ответ на свои вопросы – потому и пишу. Писать или говорить —особой разницы нет. Хотим мы того или нет, но в тексте всегда говорим с собой, вскрываем себя. Русский язык – как, впрочем, всякий другой – таков, что им проще раздеть себя, чем укрыться в нем. Вы можете хотеть притвориться, и у вас это почти получится, и все равно проговоритесь в самый неподходящий момент. Личность автора отражена в тексте, с этим ничего не поделаешь.
С радостью проще, а с болью нужно работать достаточно аккуратно, чтоб не сделать ее для себя источником новой, большей боли. И боль, и радость требуют равно и целомудренности, и откровенности в отражении. Историю – да, даже историю из прошлого – вполне можно компоновать из элементов собственной жизни, впечатлений и ощущений, но складывая в мозаику, в узор калейдоскопа так, чтоб места стыков были ведомы только автору. Трансформация травмы в творчество целительна почти всегда, исключение составляют те произведения, в которых боль автора консервируется на годы, если не на целую вечность. Чтобы не получить ретравматизацию, лучше не писать по горячим следам, а если уж написали – не выкладывать получившееся на обозрение широкой публике. Социальные сети и сервисы самопубликации ловят пишущего на дофаминовый крючок – мы тянемся туда за возможностью получить поддержку, одобрение, сочувствие. Забудьте об этом. Наиболее точная метафора соцсети – римский Колизей. Туда ходят пощекотать нервы, посмотреть на голое тело, понюхать кровь и испражнения, действительного сочувствия в сети ждать совершенно бессмысленно. Девяносто пять процентов нормальных читателей, видя кровавую, дымящуюся откровенность, испытают неловкость, не зная, что сказать, но остальные пять радостно приобщатся, пируя на вашей боли. Кроме того, истинная боль у весьма малого числа авторов (и, как правило, это очень талантливые и опытные авторы) звучит художественно, в большинстве случаев подобные тексты читать решительно невозможно. Не несите свою боль в текст сразу (или несите ее в текст в формате личного, подзамочного дневника), дайте ей перегореть. Дайте себе отойти от стресса и пишите чуть погодя, когда потребуется вывести токсины. Иногда достаточно просто вылить на бумагу. Иногда требуется в корне поменять сюжет. Хороший способ отработать лишнее – позволить себе (герою) в тексте другой выход, не тот, что привел к поражению самого автора. Почему так популярен жанр альтернативной истории? Читатель мучительно желает переиграть, как было, сделать так, чтобы Чапаев выплыл в обнимку с «Титаником». Так предоставьте себе, автору, эту возможность – в целительных дозах. Отдайте герою проблему, но подарите ему правильное либо устраивающее вас решение.
Текстом можно отработать живую боль, былую боль и боль вечную. В детстве меня поражала мысль, как людям хватает смелости жить, зная, что они все равно однажды умрут – и сами они, и их любимые, и дети. Преодоление экзистенциальной тоски одиночества, с которым родились мы все, каждый из нас, наиболее полный способ выразить себя самого – без вскрытия – это и есть писательство. Текст ничего не стоит, текст доступен всегда и везде, текст не требует собеседника, точнее, этот собеседник всегда с тобой.
Исторический роман предоставляет идеальное поле для самовыражения – подумать о вечном. Они все уже сделали до нас, весь сюжет, нам осталось осмыслить и расставить акценты. Нам осталось прожить за них жизнь, исправляя свои ошибки. Мне всегда помогает – и в тексте, и в жизни – понять мотивацию персонажа для того, чтоб без больших потерь выйти из ситуации. Простить не прощу, но вот знать и понимать необходимо всегда. Знание успокаивает.
Текст – всегда якорь в ускользающей от меня действительности. Работа с текстом – написание или редактирование – структурирует и умиротворяет сознание. Собственно, за тем она и нужна.
Зачем нужны персонажи
В природе человека заложена способность к игре и стремление к упорядочиванию, усваиванию окружающего нас мира посредством построения схем. Творчество отвечает обоим этим устремлениям.
Персонажей я могу контролировать почти полностью, это снимает стресс от взаимодействия со внешним непредсказуемым миром, не подчиняющимся моему контролю. Персонажи могут меня удивить, это отвечает моей потребности в игре. В целом персонаж обычно или закрывает какую-то потребность, или залечивает рану. Собственно, намерение рассказать историю именно с этими персонажами возникает как раз из потребности автора, которая другим способом утоления не достигнет (текст – самый простой способ получить паллиатив для заведомо невыполнимого желания). Есть здесь и проявление комплекса демиурга, присущего каждому писателю в разной степени. Создаются герои именно «из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик» (Юлий Ким) – и далее по тексту. Причем, плоть и страсть у героя бывают такие, что диву даешься – откуда что взялось.
Считается, мы не можем наделить героя ничем, не присущим изначально нам самим. Это и так, и не так. Персонажи растут из нашего опыта, но отнюдь не из всего нашего опыта. Персонажи суть проекции нашего взгляда на мир, но далеко не всегда это только проекции. Можно разработать систему умолчаний, но язык все равно выболтает подлинное. Добродетельный герой у автора, не верящего в добродетель, неумолимо станет дребезжать и фальшивить – пусть на границе слуха, едва уловимо. По моим наблюдениям, злодеи у милейших авторов получаются лучше, чем праведники у подлецов. Конечно, есть авторы, способные идеально мимикрировать, отделяя себя от героя полностью, но таких меньшинство. У большинства из-под текста, из-под персонажа, даже полностью противоположного моральным принципам героя, будет проглядывать автор. Каждому автору комфортен свой уровень самообмана (нет, меня тут нет) или откровенности с собой (да, я тут есть). Для меня откровенность в приоритете. Откуда берется это ожесточенное отрицание автором собственной причастности к герою? Людям свойственно хотеть быть хорошими – в своих ли глазах или в глазах общества. До последнего вздоха мы будем искать себе оправданий. Оправданий даже и там, где ответственны не за действие, а за образ, за мысль, – хотя еще неизвестно, не бóльшая ли это ответственность. Так и растет, на том желании отстраниться как оправдаться, иллюзия о беспристрастности автора, который всего лишь наблюдает окружающую реальность.
К сожалению или к счастью, «абсолютная беспристрастность автора, просто фиксирующего» то, что наблюдает в реальности рядом с собой – фикция. Нет никакой абсолютной беспристрастности. Ею в идеале должны обладать психотерапевты, исповедники, следователи, журналисты, но и они тоже люди. Каждый из нас, якобы просто фиксируя реальность, делает это:
– уникальным, присущим только ему языком;
– через призму собственного жизненного опыта;
– производя морально-этическую оценку событий и поступков.
И на выходе мы получаем художественный образ, а не протокол, достоверно отображающий действительность. Сотня авторов, поставленных описывать одно и то же событие, даст вам сотню разных отчетов – и образов – по итогу. Не зря же говорят «врет как очевидец».
Глобально персонаж нужен мне, чтобы:
– избавить от боли;
– удовлетворить потребность;
– сохранить воспоминания;
– просто развлечься (эта функция может в своем развитии включить и первые три перечисленные).
Для исторического романа существует еще и пятый вариант – герой как предмет исследования.
Как строить персонажа? Как уже упоминалось, из миража, из ничего. В случае героя исторического романа, который умер 500 лет назад, данная формулировка более чем уместна. Есть мираж – контуры реальной жизни, в них нужно вписать характер. У героя непременно должна быть сильная сторона и слабая, и живое нутро, а еще у него должен быть конфликт, из которого он станет развиваться. Человек в принципе животное инертное, сам в пекло не полезет, если автор не пнет, будет увиливать до последнего. Обязательно ли развитие героя в течение книги? Возможно, и нет, но с развитием, с трансформацией история становится безусловно увлекательней. Про героя, шершавящегося в предложенных обстоятельствах, лично мне читать (и писать, разумеется) интересней, чем про гладкого идеалиста/циника. Конфликт у героя возможен как горизонтальный – с себе подобными, в жизненными обстоятельствами (то есть, земной), так и вертикальный – с высшими силами, со своим ненайденным пока предназначением и т. п. (духовный). Некоторые умники совмещают в себе оба вида конфликта, обеспечивая тем самым автору немало жарких минут мозгового штурма.
Степени свободы персонажа закладываются при планировании сюжета в количестве n+1. Дело в том, что далеко не всегда автор может предсказать, как герой поведет себя в предложенных обстоятельствах. «Почему этот дурак не сказал сразу, что видел какаду?» – как восклицала в таких случаях незабвенная Ариадна Оливер. А надо, чтобы сказал. Или напротив, чтобы молчал, как рыба об лед. Прообщавшись десять лет с различными источниками по шотландскому XVI веку, могу предостеречь от поиска как самых простых, так и самых сложных мотиваций герою. Живые люди в большинстве своем средней сложности по умственной и душевной организации и, тем не менее, будучи вполне предсказуемыми, способны удивить. Вот с такой же меркой следует подходить и к персонажам.
Подыскивая мотивацию поступкам реального исторического лица, я столкнулась с тем, что порой переусложняю. Мотивация героя может определяться как неочевидными человеку нашего времени условностями кодекса поведения прошлого, так и свойственными человеку нашего же времени глупостями (ибо москвичи, по сути, те же, но их испортил квартирный вопрос). Сюда же можно добавить и особенности поведения, обусловленные, например, состоянием здоровья персонажа. Учесть темперамент, исходя из данных о семье и поступках, помножить на скверное самочувствие ввиду хронической болезни, возвести в степень правил чести… И получаем несколько превосходных образцов поведения, которые, когда устаю искать разумного объяснения поступкам героя, я классифицирую как «просто дебил», «просто понесло», «благородно зарезал». Другое дело, что к «просто дебил» и «просто понесло» надо подходить методично и последовательно – как правило, подобному поведению персонажа предшествовал ряд фактов и обстоятельств. С «просто дебил» все более-менее понятно – самое важное тут, что линия поведения персонажа требует однородности. Героиня не может быть дурой в зрелом возрасте, если смолоду была умна, а вот поумнеть с возрастом способна вполне. Если герой глуповат по жизни, то должен стойко нести это знамя, не вступая в ум случайно, время от времени (типаж Иванушки-дурачка, который не дурачок, сейчас не рассматриваем, это частный случай). Умен герой или глуп, но авторской волей он должен быть более-менее последователен в этом своем качестве. С «просто понесло» несколько сложнее. Исторический роман – та же жизнь, как и всякая другая; и в современности известно достаточное количество примеров, когда человек внезапно рушит собственными руками устоявшийся вокруг него порядок вещей, рубит ветвь, на которой сидит, и тому подобное… Но если внимательно присмотреться, под этим «внезапно» всегда есть база: люди, события, следствия поступков, контекст эпохи. Человека может «понести» и один раз за всю жизнь в критический момент, этим страдают люди, обычно крепко держащие себя в руках – тогда взрыв особенно непредсказуем и разрушителен; а могут взрывы идти и цепной реакцией, тогда встраиваем данную особенность в характер героя (пометка на полях умозрительной карточки персонажа: «в сложной ситуации истерит»). Резюмируя: иногда неверно искать слишком сложную, диктуемую ему интеллектом мотивацию поступкам персонажа, но объяснение, обоснование его поведения должно быть комплексным.
Когда ослаблять поводок? Держать ли героя в тисках первоначального замысла или следовать воле фантазии? Героя действительно иногда необходимо отпускать порезвиться, однако следует знать меру. В крупном воли давать нельзя, этот боевой слон Александра Македонского обрушит вам всю тщательно выстроенную посудную, хрустальную лавку плана книги. Но вот в чем-нибудь небольшом и приятном, логически вытекающем из характера, но не запланированном заранее… Больше всего меня удивил мой герой, когда отправился незадолго до финала эпопеи искать примирения с брошенной женой. Я от него не ожидала, хотя, вроде бы, знакома была давненько. В историческом романе автор довольно жестко ограничен по поступкам героев, поэтому неожиданности приходится допускать в области чувств, в области чего-либо недокументированного или вовсе сожранного временем без следа.
И есть еще одна прекрасная функция персонажей, из-за которой именно многие авторы желают видеть себя беспристрастным наблюдателем за героем. Назовем это темной стороной луны. Человек социума, человек культурный весьма ограничен в изъявлении негативных эмоций и разрушительных чувств, иное дело – средневековые бароны. Персонаж, слепленный из собственного негатива, отлично помогает осветить темную сторону луны, принять не самую приятную часть личности, приручить хтоническое бешенство, выгулять совершенно бессердечное «я» – и все это без малейшей угрозы себе самому и обществу. Очень удобно и, опять-таки, весьма терапевтично. Личные проблемы? Устройте в тексте резню на пару страниц – полегчает, метод проверенный. Отдельно поэтому люблю писать о нетолерантных странах в нетолерантные века. Главное, делайте все черные дела чужими руками, заведите под эти нужды какого-нибудь друга главного героя, чтоб не марать его самого в глазах сердобольного читателя. Хотя сердобольный читатель и не такое оправдывал – проходили.

