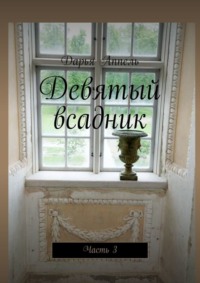
Девятый всадник. Часть 3
«Я очень тебе признателен за беспокойство, но уверяю тебя, мне бы ничего не сделали», – произнес Кристоф.
Рибопьер в ответ покачал головой.
«Вам бы сделали много хуже, Ваше Сиятельство», – тихо произнес он. – «И да, прошу вас, не выпускайте вашу прекрасную супругу гулять в одиночестве. Даже с горничной… Лучше приставьте к ней трех крепких человек, не менее».
Кристоф не выпускал из рук зеленую папку, в которой содержался, по словам Рибопьера, некий донос на него. Даже не посмотрел, что внутри – так его озаботил рассказ подчиненного. Пока он понял только одно – Амалии зачем-то нужны были письма ее сестры к князю Чарторыйскому. Неужто она хотела интриговать против императрицы? Принцесса находилась «в гостях» уже второй год, и с сестрой в свете была неразлучна. Елизавета даже приободрилась заметно, стала вести себя увереннее и жизнерадостнее. Возможно, именно благодаря влиянию и поддержке Амалии императрица смогла так твердо, уверенно и несгибаемо действовать во время несчастных событий 12 марта. Скорее всего, Елизавета доверяла сестре все, о чем говорила в своих письмах. И та решила обернуть доверие против нее самой. Поэтому нужны были доказательства на бумаге. Отсюда и началась охота за несчастным Рибопьером.
«Не тревожься», – проговорил граф Ливен. – «А тебе все же поединок сослужил плохую службу… Все девицы и дамы, вплоть до самых высокорожденных, воспылали неумеренным сочувствием к твоей судьбе. Вот так и вышло. Упреки от принцессы Амалии за неподобающее поведение моей жены я уже получал лично».
«Я сам не рад, что все вылезло на публику», – вздохнул Саша. – «Из-за этого меня стало проще найти. Ну и отбиться я не смог».
«Никто не может отбиться, когда на тебя нападают те, кто умеет убивать», – заверил его Кристоф. – «Ну а что касается писем… Говорят, князь Чарторыйский – благородный человек».
Рибопьер посмотрел на него изумленно.
«Говорят», – повторил Кристоф. – «Я не имею чести его близко знать. Кстати, откуда вы взяли донос на меня?»
«Его автор – покойный граф Талызин», – проговорил Рибопьер. – «Там о нас всех говорится…»
«Что сталось с Талызиным? Не самоубийство ли?»
«Неизвестно. Когда я приехал к нему, все дома было разгромлено, слуги были уверены, что было совершено ограбление. Камердинер сказал, что застал хозяина лежащим у кровати, все было испачкано… Подозревают, что Шестого рыцаря отравил кто-то».
Кристоф открыл папку. Пробежался глазами, не вдаваясь в сам текст. «Жизни Вашего блаженной памяти отца, покойного нашего государя, угрожало тайное общество, членом коего состоял и я сам…», – уловил он глазами предложение, которое сказало все. Донос был не закончен, даты и подписи не проставлено. Скорее всего, он был последним, что написал в своей недлинной жизни его приятель.
«Зачем ты пришел к нему?»
Рибопьер замялся.
«По чистому наитию, Ваше Сиятельство», – произнес он застенчиво. – «Почему-то подумал, что необходимо вспомнить о нем… Оказалось – слишком поздно».
«В этом случае поздравь себя с тем, что опоздал», – Кристоф встал с дивана, вырвал исписанные крупным круглым почерком листы из папки и начал их разрывать на мелкие клочки методично.
«Я бы смог ему помочь», – Саша следил за ним глазами, не отрываясь».
«Нет, не смог бы. Если его смерть наступила от болезни, то она, эта болезнь, развивалась необычайно быстро, и он бы умер у тебя на руках. А потом тебя бы объявили в отравлении. Нашли бы этот донос – и приплели бы в качестве мотива твоих преступных действий. Если Талызина кто-то убил – неважно чем, ядом или кинжалом – то убийца бы не захотел оставлять свидетелей своего злодеяния».
«Хоть в чем-то мне повезло», – вздохнул молодой человек, выслушав рассуждения своего начальника. – «Кстати, я также услышал, что полтора месяца назад граф Талызин отписал свое имение в пользу собственных родственников…»
«Значит, сам», – подумал Кристоф, но вслух делиться своими предположениями не стал. С другой стороны, может быть, он знал о том, что его кто-то захочет убить? Или носил в себе зачатки сведшей его в могилу болезни, пока невидимые никому, кроме него самого? Графу Петру было нечего терять – вот он и встал на скользкий путь доносчика. Против тех, кто свято хранит тайну своего существования. Но кто заставил его доносить? Шестой рыцарь никогда не вызывал у Кристофа сомнений в своей верности. Он знал очень многое, считался хранителем всех розенкрейцерских тайн и весьма продвинутым по пути «славления света». Имелись все основания полагать, что Талызин станет «мастером Восьмой части мира». И тут – такой вот донос… Уничтожив эти бумаги, граф также снял со своего Брата по Розе и Кресту обвинение в самом тяжком из грехов – предательстве. И если его спросят, то будет отрицать – был ли донос, не было ли его.
«Наши редко умирают своей смертью», – тихо проговорил он. – «Особенно в нынешние времена. Мы слишком много кому мешаем… Поэтому в свой срок следует поступить так же, как наш Брат, да пребудет он вечно в Небесном Царствии…»
Они оба перекрестились.
«Я, наверное, никогда не женюсь», – тихо произнес Рибопьер. – «У меня есть одна девица… там, за триста верст. Но она богатая, богаче нашего, никто за меня ее не отдаст. Раньше я терзался этим обстоятельством, а нынче думаю – так слава Господу, что подобное препятствие существует. Недаром все же рыцари старых времен приносили обет безбрачия».
Кристоф почти не слушал его излияний. В другое время он бы над ним как-то подшутил, но нынче его мысли были заняты другим. Что будет дальше? Смерть Талызина была признана естественной, и даже если у кого были подозрения, то пока никто их не озвучил. Мало ли отчего может умереть человек, даже относительно молодой? Близких родственников нет, забить тревогу некому. В том-то и проблема. Недаром говорилось: «Негоже человеку быть одному». Всегда рядом с ним должен находиться кто-то близкий.
«Ранее я рассуждал так же, как ты», – проговорил Кристоф. – «Мол, одному всегда легче. Особенно крепко я в это верил после того, как мне жестоко разбили сердце… Но ежели ты остался один, без всяческой поддержки, то ты становишься бессильным. До тебя проще добраться. Причем не только убийцам. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?»
Его юный друг кивнул, но не особо уверенно. Граф усмехнулся про себя: «Ну вот, я и начинаю проповедовать… Так и наступает старость».
«Я обязательно заступлюсь за тебя перед государем, если у тебя возникнут какие-то проблемы из-за писем. Но, как мне показалось, Ее Величество готова нынче сама нести за них ответственность», – продолжил он.
Рибопьер взглянул на часы и охнул.
«Я обещался быть у сестры!» – произнес он. – «Лиза знает, что со мной стряслось. Небось места себе уже не находит, думает, что меня все-таки прикончили».
«Передай ей приветы. И от моей жены тоже», – сказал на прощание Кристоф.
Когда дверь за Сашей закрылась, Дотти, занимавшая себя чтением и не слышавшая беседы, так как она велась в отдаленной комнате и довольно тихо, накинулась на мужа.
«Молись за упокой графа Талызина», – проговорил он, не сильно печальным, впрочем, голосом.
«Ужас какой… Он же всего на семь лет тебя старше… Что с ним случилось?» – ожидаемо начала расспрашивать девушка.
«То же, что и с государем Павлом Петровичем», – сказал Кристоф, и после паузы, во время которой его жена усиленно пыталась примириться с новостью, добавил:
«Так, как написано в манифесте».
Они оба уже знали, как просто выдать убийство за смерть от естественных причин.
CR (1830)
Итак, Нессельрод все правильно рассчитал, уехав в свой Эмс принимать ванны и прогуливаться по лесам и холмам. На долю вашего покорного слуги свалился большой кризис. Во Франции давеча объявлена республика – «никогда такого не было, и вот опять», как скаламбурил давеча князь Меншиков. В связи с чем Государь хочет немедленно седлать коней, и я ежедневно уговариваю его повременить с этим делом. Иногда с трудом. Его чувства мне ясны, но против войны восстают все его министры. И только у меня, Думаю, все это не ограничится одной только Францией. Что-то обязательно должно развалиться еще. Можно даже ставки делать – или Испания, или, как подозревает Альхен, опять Неаполь. По этому поводу с ним заключили пари на севрский сервиз на шестнадцать персон. Подходящая награда в подобном случае. Если же никто из нас не угадает, и возмущение начнется, например, в Пруссии (будет весьма странно) или в Австрии (tu l’as voulu, Georges Dandin – так я и отпишу нашему великому канцлеру, как только узнаю новости о беспорядках на улице Вены, и, признаюсь, это доставит мне большое удовольствие), сервиз мы оба перебьем, как в былые времена. Никто не удивлен – кроме Его Величества, полагаю – что д'Артуа свергают. Важно понять, на кого – или на что – его хотят заменить. От этого и зависит весь порядок моих действий. А Нессельрод пусть и далее наслаждается долгожданным отдыхом. Я специально еще не отправлял к нему курьеров. Наверное, уведомлю графа только тогда, когда ситуация выйдет из-под контроля, и Государю ничего не останется делать, как отправлять экспедиционной корпус во Францию уже проторенной дорогой.
И вот что мне интересно. Пять лет назад, когда у всех на устах было имя Риего, волевым усилием вмешалась Франция, на которую давили все четыре державы одновременно. Нынче что нас ждет? Испания выйдет на помощь нашему незадачливому Карлу Х? От одной этой мысли мне становится смешно. А потом удивляюсь самому себе: неужели я за все эти годы достиг истинного просветления, и мне любые политические треволнения кажутся пустяками? Четверть века тому назад я бы проводил на службе круглые сутки в попытке хоть как-то уладить возникший кризис, бесконечно бы курил и выглядел бы так, что краше в гроб кладут, а в конце концов у меня бы снова открылось легочное кровотечение из-за некоей пустячной простуды. Сейчас мне почти что все равно, что происходит там, за тысячу верст от нас, и какие новости привезут с курьером назавтра. Катаюсь на Острова, пью шампанское, стреляю по бутылкам из своих любимых «Ланкастеров», как юный поручик, и даже совершаю различные глупости, за которые мне впоследствии будет крайне стыдно… К сожалению, предаваясь сим les petites betises, я чувствую свой возраст в полной мере. Тридцать лет назад меня лишь немногие дамы и девицы посмели бы в гневе выкрикнуть мне в лицо: «Le vieux cochon!» и захлопнуть дверь в свою спальню прямо перед моим носом, как вчера поступила одна юная черноглазая demoiselle, фрейлина императрицы, кажется. Но я сам виноват. Как говорится, «вспомнила бабка, как девкой была» (да, я страдаю грехом многих своих соотечественников – привязан к русским пословицам, потому как в моем родном языке не слишком много столь красочных и метких изречений, придуманных народным разумом).
Но преимущество моих тогдашних тридцати лет перед нынешними пятьюдесятью шестью ограничивается только наличием благосклонности хорошеньких demoiselles. Кстати, их можно понять. Вспоминаю, как тогда мы вовсю потешались над стариками екатерининской эпохи, гоняющимися за актерками Французского театра или хорошенькими светскими дамами. Нынче я сам, верно, выгляжу так же.
Итак, ежели мне предложили вернуться на четверть века вперед, я бы наотрез отказался. Нет, я, конечно, бывало, грущу по этим временам, но особой тоски не испытываю. Больше тоскую по людям, которых уже нет рядом со мной. Таких уже более не появится… Нынешние люди ведут себя иначе. Даже те, которых я знал, весьма изменились. Но я, кажется, об этом уже писал.
Что ж, коли я задумался о прошлом, надобно написать о тех временах, которые я полагаю «золотыми» и в которые, быть может, вернулся бы, если предоставили бы подобную возможность. Мне выпало на долю четыре года условного «мира» и абсолютного счастья, совпавшие с первыми четырьмя годами правления покойного государя. В эти годы те, чьим мнением я всегда дорожил, полностью признали мои таланты и способности. Я начал полагать себя государственным деятелем, способным реально что-то изменить в России. Даже составил на досуге пару проектов «государственной важности». Хорошо, что сжег их черновики. Надеюсь, чистовые версии постигла та же участь, и они не сохранятся ни в каком архиве на потеху потомков, которые вздумают изучать историю наших времен.
Что же касается моей частной жизни… Скажу сразу – тогда все было лучше. Гораздо лучше, чем потом. Мое счастье несколько омрачала необходимость постоянно присутствовать рядом с государем в поездках, но они не были продолжительными, и, как известно, разлука только обостряет любовь. К концу сего «золотого века» моего бренного существования я впервые стал отцом и неожиданно для себя почувствовал, что вполне подхожу для этой роли.
Но обо всем по порядку.
Итак, я сохранил дружбу Государя, да и всех при Дворе, включая особ вышестоящих. Могу сказать, что единственный из них, кто питал ко мне некоторую неприязнь (не назову это ненавистью или враждой) – цесаревич Константин. Чем заслужил я его немилость – не скажу. Мы даже не соприкасались друг с другом ни по каким делам. Так полагал я тогда.
Однако теперь я могу сказать, что для этого нужно немногое. Но он в целом личность не самая дружелюбная, готовая искать врагов во всех. Нынче уже привык, что некоторым не нравлюсь самим фактом своего существования, но двадцать пять лет назад был охвачен желанием сделаться всеобщим любимцем или хотя бы не нажить врагов. Оттого-то я и сблизился с «квартетом вольнодумцев», каждый из которых при менее благоприятных обстоятельствах мог бы стать моим врагом.
Но сближение это произошло далеко не сразу. И протекало весьма неровно, а то и причудливо. Со множеством взаимных обид и разногласий. Окончилось глубоким разочарованием с обеих сторон, обменом «любезностями» и одновременной порчей репутаций друг другу. Не хотелось бы о сем вспоминать, но надо. Для исторической верности. Люди, о которых пойдет речь ниже, уже перестали что-то значить на политической арене, а кое-кто и мертв (и снится мне во снах, после которых у меня в душе – странное волнение).
Итак, из нас всех император Александр отобрал четырех, которых полагал наиболее просвещенными, толковыми и удачливыми. Многие с этим выбором не были согласны, видя на месте Новосильцева, Строганова, Чарторыйского и Кочубея самих себя или кого-то из собственной партии. Скажем, мой друг князь Долгоруков всячески досадовал на то, что эти четыре человека пользуются всеми видами власти и влияния на государя. И было, за что. Они единственные, кто могли в любое время заходить к государю без доклада. Говорили, что каждый из них носит при себе ключ к потайной двери в императорские покои, чтобы без лишних проволочек и свидетелей переговорить с Александром, когда им хочется. Не буду тут повторять слухи о затеваемых «молодыми друзьями» проектах. Слова «революционеры», «якобинцы», «безумцы» повторялись в их адрес с завидной регулярностью. Правда, произносили их, в основном, люди пожилые и благонамеренные. Мои ровесники не скрывали, что откровенно завидуют «квартету». Но у тех было хотя бы, что предложить Государю. Мы (те самые завистники) пока не думали ни о чем. Нам нечего было предложить. И меня это весьма напрягало, если честно.
…Когда узнают, что я пять лет водил дружбу с графом Строгановым, обязательно спросят: «А он показывал вам свой проект Конституции?» или «А о чем они совещались с Чарторыйским и Новосильцевым?» (бедного Виктора Кочубея всегда задвигают). Вероятно, те, кто прочтет когда-либо эти строки, начнут в нетерпении перелистывать страницы, отчаянно ища описаний заседаний Негласного комитета, которые я переложил здесь со слов своего друга. Отвечу сразу: Комитет потому и назывался «Негласным», что в его деятельность было посвящено как можно меньше людей. Я имел достаточно такта, чтобы не давить на графа Поля с требованием пересказывать мне все обсуждаемое, и чтобы не напрашиваться в члены Комитета самому. Ведь иначе бы меня возненавидели очень многие. В том числе, собственные родственники. Но расскажу все по порядку.
Коронация государя была назначена на сентябрь. В августе всему Двору предстояло переезжать в Москву. В июне в Петербурге объявился Чарторыйский, четвертый из основных приближенных к государю лиц, и они открыли первое свое заседание. О нем я, разумеется, не знал, так как тайна была сохранена. У меня были другие дела и заботы, – точнее, в кои-то веки полное их отсутствие. Нанять дачу на Каменном острове оказалось блестящей идеей. Наверное, только в детстве я ощущал себя столь свободным и не обязанным никому ничего. Просыпаться тогда, когда хочется, а не когда надо – бесценно. Я всю жизнь ненавидел подниматься до рассвета и, признаюсь, большой любитель поваляться в кровати до полудня, и в кои-то веки смог предаться своей страсти вдоволь, благо Государь не требовал меня к себе ранее трех часов пополудни. Столь же прекрасно проводить вечера, ужиная на веранде, держать большие французские окна открытыми в сад, вдыхать дивный запах белой сирени, растущей прямо под окнами в спальню, и слушать фортепиано, и читать «Песни Оссиана», представляя совсем иные берега, давая своему воображению полную волю… А недалеко была купальня, я любил приходить туда после заката и переплывать неглубокий пруд от края до края. Как сейчас иногда делаю в Ричмонде.
Прожил бы я в подобной неге всю жизнь? Вряд ли, сразу говорю. Дотти явно скучала, хотя и гуляла по саду вовсю. Я купил ей пару лошадей, весьма смирных, одну белую, вторую каурую, которым она придумала невероятные клички – одна у нее прозывалась «Элеонорой», другая – «Кастильоной». Всему живому надо давать имена – мое неотложное правило. И имя должно быть у каждого свое. Этому я учу всех, кто готов учиться. И первый урок, который я преподал Доротее, звучал именно так. Она оказалась весьма смышленой ученицей. Во многом превзошедшей своего учителя, это так.
Помимо этого, я учил ее выездке. Странно было рассказывать ей основы мастерства, коим овладел почти в бессознательном возрасте. Даже нужных слов не находилось. Впрочем, ездить в дамском седле на смирной кобыле – это не особенно сложная наука. Могла и самостоятельно ее освоить.
Но дело было далеко не только в настроении моей супруги. Я тоже на третий примерно день эдакой беззаботной жизни начинал не находить себе места, и, в конце концов, выезжал в город видеться с приятелями и смотреть, что творится в свете. Приглашал и сюда людей, разрушавших мою тщательно выверенную атмосферу своими разговорами, громкими голосами, размашистыми жестами. Они создавали из моего уютного парадиза нечто свое, отчего он утрачивал первоначальные черты и превращался в обычный «открытый дом». И, самое нехорошее, что я сам не замечал поначалу, когда и как именно мой тщательно выстроенный Heim превращается в «место для всех». Наверное, то была репетиция той жизни. Когда почти все выставлено напоказ, для гостей, и мы сами как-то должны проводить в подобных интерьерах свою частную жизнь, будучи практически ежедневно вынужденными готовиться к приему высочайших гостей.
На коронацию Дотти не поехала, очень переживая по этому поводу. По ее словам, ее туда не пустила Мария Федоровна, которая наотрез отказалась видеть триумф сына, по ее мнению, неправедно получившего власть. Весь «малый двор» остался в Павловске, и моя супруга, которая к нему принадлежала, никуда не поехала. Я, естественно, отправился туда, так как являлся генерал-адъютантом Государя.
«Малый двор»… Одно из ненавистных мне мест. Хорошо, что нынче самого такого понятия не существует. В первые годы правления императора Александра Павловск – и само окружение вдовствующей императрицы – моментально сделались прибежищем тех, кто по каким-то причинам был недоволен «молодыми друзьями» и затеваемыми ими преобразованиями. Или кто, как мы, был кровно связан со вдовствующей императрицей. Я старался пореже там бывать, но, конечно, приходилось, потому как тогда на меня начинала обижаться матушка, тоже ничуть не потерявшая в своем влиянии, – напротив, своим твердым и мужественным поведением в роковую ночь на 12 марта укрепившая его. Стоило мне появиться у нее в гостиной, как на меня набрасывались с расспросами – что и как происходит при «большом дворе», что собирается делать государь, правда ли, что в России будет Конституция и Парламент, почему мы не разорвем отношения с Францией, а наоборот, собираемся возобновить мирный договор с нею, и будет ли война в обозримом будущем, etc, etc… Я обыкновенно ссылался на то, что занят по службе, мне недосуг вступать в философские и умозрительные разговоры, но матушка на меня весьма давила, требуя решительных ответов. Я догадывался, что эти ответы будут обсуждаться на все лады, частенько в перевранном виде, а потом итоги этих обсуждений будут известны государю и его ближайшему окружению. Во всей этой суете проходили весна и осень 1801 года. К октябрю дело достигло критической отметки. За государевым столом я замечал, что граф Строганов смотрит на меня, как на злейшего своего врага. Его кузен Новосильцев не отставал от него, и пару раз сказанул известное про «немцев, которые получают все». Моего приятеля Долгорукова не было. Тот отправился в Вильно, инспектировать губернию, коей отослали управлять Беннигсена. Государь устранил от себя всех убийц своего отца, и с Беннигсеном, присутствовавшим в той самой спальне, поступили лучше всех.
Может быть, и к лучшему, что князя Петра рядом со мной не было тогда. Тот бы своим неловким вмешательством натворил дел, доведя меня чуть ли не до дуэли.
…После того обеда я отправился к себе в тяжких раздумьях. Мне – равно как и тому «квартету» – не нужно было открытое противостояние. Я не мог не признать, что нет смысла унижать их в глазах государевых, как постоянно предлагали мне что «старики» из круга вдовствующей императрицы, что князь Долгоруков, потому как против них лично ничего не имел. Завидовать – не завидовал, скорее, сожалел. Ведь по себе знаю, что значит близость к государю. Да, входить без доклада в любое время дня и ночи – это, на первый взгляд, величайшая честь, но по здравому рассуждению – и обуза. Я сам пять лет пользовался сей «милостью», и могу сказать – ничего в сем хорошего нет. Тогда я только радовался, что меня держали на расстоянии вытянутой руки. Да, государь обращался ко мне только по имени и на «ты», но не обсуждал со мной всех своих планов и затей. Я занимался только тем, что входило в круг моих компетенций как начальника Feldkanzelerei, и лишь радовался тому, что мне не нужно более обременять чем-то иным. Но времена менялись стремительно, и каждый день приносил что-то новое. Нужно было к сим изменениям приспосабливаться, иначе мне оставалось бы только ворчать, как старый дед, в гостиной моей матушки. Отмечу еще тот факт, что я искренне любил своего Государя и хотел принести ему пользу. А окружение Марии Федоровны видело в нем самое большее – мальчишку, не способного управиться с элементарными делами.
Итак, что же мне оставалось делать? Я отписался Армфельду, пребывавшему в Берлине, и тот ответил мне так: «Делать великие дела, потому как время для этого самое благоприятное». Далее он написал: «В благополучные времена многие предпочитают почивать на лаврах или же предаваться безделью, думая, что этого заслужили. И лишь в грозу жизни своей развивают активную деятельность. Но тогда зачастую слишком поздно что-то делать. Не трать время, проявляй себя, не дожидаясь бури… Я знаю, о чем пишу, ибо сам когда-то был праздным во времена затишья, растрачивая впустую драгоценные мгновения мира…»
Все на бумаге звучало отлично. Но как я мог быть полезен? Единственное решение – подружиться с «квартетом». Войти в их круг. Долгоруков этого бы мне вряд ли простил. Да и не думаю, что они встретили бы меня с распростертыми объятьями. Но спокойно взирать на то, как они смотрят на меня и на моих друзей, я более не мог. Тут либо откровенно ссориться с ними – со всеми последствиями – либо терпеть.
К тому же, то, чем они занимались, тоже было мне не чуждым. Так как свободного времени у меня стало поболее, чем раньше, я снова предался чтению разнообразных книг – как исторических, так и философских, какие мог достать. Даже завел себе тетрадь, в которую выписывал различные понравившиеся цитаты и любопытные мысли, которые хотелось бы развить. Я всегда был человеком практичным, поэтому в книгах искал то, что могло быть применено к реальной жизни и было бы созвучно с моим личным опытом. К тому же, я осознал в себе амбиции государственного деятеля. Не помню, в какой именно момент своей жизни я понял, что мне недостаточно просто служить государю и выполнять его приказания, с покорностью подчиняясь переменам, которые вносят в жизнь люди, обладающие истинной властью. Потому как, несмотря на все атрибуты высокого положения, знатность и богатство, я в реальности не обладал даже властью над собственной участью, не говоря о чем-то ином. События прошлого царствования, слишком отчетливо сохранившиеся в памяти, это со всей отчетливостью показали. Возможно, кстати, что стремительные преобразования, которые ознаменовали «дней Александровых прекрасное начало», как написал один талантливый поэт, были вызваны именно реакцией на тиранию убитого государя.