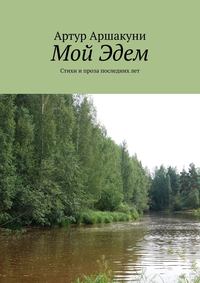
Мой Эдем. Стихи и проза последних лет
Ну, и нанесла.
Сын. Андрюха. Андрей Ульянович.
Внешне это никак на дедУле не отразилось. Он все так же с утра до вечера тюкал топором, стучал молотком, жужжал дрелью и визжал шуруповертом. Разве что стал чаще присаживаться на отдых и стал ходить с палочкой – не потому что нуждался в ней, а просто Андрюха когда-то со смехом сделал ему пенсионный подарок, стариковскую палку, чтобы никогда, как говорится, не понадобилась.
Еще Андрюха отдал перед отъездом дедУле свой второй мобильник. Так дедУля с ним носился, как курица с яйцом – носил при себе, поминутно смотрел на дисплей, исправно заряжал, оплачивал каждый месяц. В общем с тех пор тараканы в его голове и зашевелились.
Нюшка первая заметила, что дедУля ощупывает каждый гвоздь перед тем, как приложиться молотком, и сказала об этом бабУле. Та всполошилась, потащила дедУлю в местную поликлинику, а оттуда – в город, в федоровскую, глазную, где симпатичные кобылицы, затянутые в стильные голубые халатики, полдня танцевали вокруг него медленный эротический танец, а потом объявили, что у дедУли какая-то мудреная глазная дистрофия, которую нельзя излечить, а можно только замедлить – уколами прямо в глаз, количеством чем больше, тем лучше, но самое меньшее по три в каждый глаз, по сорок тыщ рублев за укол.
– Стало быть, всего двести сорок тыщ? – уточнил дедУля. – А почему не миллион, красавицы? Чтобы мне интереснее было вас послать в жопу?
И вернулся к себе, а бабУля плелась за ним всю дорогу и пилила, но это больше для самоуспокоения.
– Ложку я мимо рта не пронесу, – сказал он по возвращении Нюшке, – и тебя с бабкой не перепутаю – ее, брат, ни с кем не перепутаешь.
Дома бабУля отыгралась по полной, запретив дедУле и близко подходить к инструментам. К этому моменту сводить концы с концами стало совсем тяжело, так что дедУля смирился, начав потихоньку распродавать инструменты. В поселке было ателье по ремонту, где приторговывали подержанным, но исправным инструментом, так что электролобзик или шуруповерт шли там на ура.
Во все этом проступали явные признаки ненормальности. Соседи по переулку, да и вообще все, кто знал Ульяна Захарыча, недоумевали, как неглупый с виду и умудренный годами человек мог докатиться до распродажи собственного имущества. А дело в том, что Ульяну Захарычу и Ульяне Никитичне полагалась от государства компенсация за тот окаянный самолет. А за сына и невестку – двойная! По всем ящикам тогда трубили, что решение принято и деньги выделены. Тут бы деду и подсуетиться. И сосед, Витёк, когда Ульян Захарыч, ссылаясь на слабые ноги, просил сдать за него бензопилу или набор японских сверел в ателье, заговаривал с ним об этой коменсации. Дед притворился глухим и вопрос игнорировал. А года три назад Витёк пришел к старикам в дом поговорить об этом. Нюшка как раз играла со Степаном на крыльце; Облая и в помине тогда не было.
Дед выслушал Витька, а потом поднялся, тяжело опираясь на палку, во весь свой немалый рост.
– Я за сына с протянутой рукой к ним не пойду, – сказал он и постучал палкой в пол, так что дом загудел от нижних венцов до чердака. – Дадут – возьму. Не дадут – пусть идут в жопу.
А Ульяна Никитична в это время перебирала на столе какие-то листочки-корешочки, и непонятно было, понимает она, о чем речь, или тоже вполне себе безумна.
С тем Витёк и ушел, хотя деду продолжал помогать, как мог.
Тогда же у дедУли родилась идея посадить на поле между их избой и переулком картошку, чтобы жить стало лучше и веселее, и договорился с Витьком. Витёк пригнал свой заковыристый японский культиватор и попробовал вскопать поле. Из земли полезли битые горшки да фаянсовые чайники, а под конец венцом абсурда – ржавая кровать с панцирной сеткой. Оказалось, что тут цыгане втихаря устроили себе помойку, выбрасывая в крапиву все, что им не нужно. ДедУля не сдался, неделю еще прокапывал поле вручную и посадил-таки в первый же год картошку. Какой-то заковыристый сорт выписал, аж из откуда-то. Типа синеглазки. И что вы думаете? В первый же год налетел на поле колорадский жук. Да сколько! Тьма-тьмущая. ДедУля с бабУлей попробовали было повоевать с ним. Куда! А потом дедУля сдался и попросил Витька заборонить все поле к такой-то матери. И засеял его клевером, да не простым, а красным. С тех пор приходить к ним в гости стало приятно, по клеверному-то полю, да ходить в гости было некому. Поле стало клеверным, но называлось по-прежнему картофельным. Здоровое чувство юмора у старикана.
У Нюшки, кстати, с тех пор память и зажглась, как лампочка, с нашествия колорадского жука. До того все в разрозненных отрывках, а с этого момента пошло непрерывным потоком, как будто кто толкнул ее в бок, и она проснулась.
Когда кончились ценные инструменты, дедУля перестал заниматься хозяйством и даже выходить из дома, а целыми днями сидел на сказке и смотрел телевизор без звука.
Сказка – это для Нюшки сказка. А вообще это сундук, сделанный в те благословенные времена, когда мастер создавал вещь на несколько поколений вперед, не считая красоты, конечно. Сундук был сделан еще до революции из аккуратных планок, покрытых вишневым лаком, обит по углам сталью и обтянут для прочности стальной полосой. Открывался он действительно каким-то сказочным ключом – ажурным, массивным, который хранился у бабУли под подушкой.
В сказке хранились вещи, привезенные дедУле с бабУлей из-под Смоленска, где прошла первая половина их жизни, в большом совхозе на несколько тысяч дворов, где дедУля, а тогда Ульян Захарыч, работал начальником машинно-тракторной станции, а бабУля, тогда Ульяна Никитична, – медсестрой в местной амбулатории. В сундуке хранился аккордеон в футляре: дедУля в молодости был затейник и имел музыкальный слух. Аккордеон был импортный, трофейный, немецкий, невероятно красивый и напоминал большую елочную игрушку. Еще в сундуке была пожелтевшая газета со статьей о Андрее Лукьянове, о том, как он доблестно несет милицейскую службу, и фотография его – в новенькой форме, рот до ушей, чубатого да конопатого. А еще в сказке хранились саяны. Саян – это платье из льняного полотна, которое шьют себе девушки к приданому, украшенное вышивкой, жемчугом и серебряной нитью. Обычно шьется три саяна – один на мелкие праздники вроде Первомая да седьмого ноября, другой – себе на день рождения да на Новый год, и третий, самый торжественный – на свадьбу, на крестины ребенка, на день рождения мужа да на день Победы.
То, что рассказывали дедУля с бабУлей о своей смоленской жизни, было так непохоже на окружающую Нюшку действительность, что самым уместным было слово «сказка». Даже слово «Смоленск» было для Нюшки веселым. В нем потрескивали березовые поленья в печи, а из трубы вился даже не дымок, а особый дух, который обозначает человеческое жилье, уют и мир, то есть, все, что объемлется словом «покой». И покойнее всего Нюшке было, когда дедУля с бабуУлей сидели рядышком и выводили:
Голуби-голубыПо небу летят.Северные губыЖгут и холодят3.Нюшке нравилось сидеть на кровати рядом с разложенными из сказки вещами, саянами да аккордеоном. А ежели дедУля еще и футляр расщелкнет, то совсем хорошо: можно водить пальчиком по перламутровой, как бы светящейся изнутри поверхности, под непрерывные и бесконечные рассказы дедУли. Или разглядывать расшитый по вороту, рукавам и подолу жемчугом саян, прохладной тяжестью ложащийся на руку.
– Приехали мы, стало быть, в село, – рассказывает дедУля.
О чем это он? Какое село? Заканчиваться должно счастливо.
– Повели нас на берег реки, к проруби. А там бревна рассыпаны. Разобрали мужики бревна из воды, а к ним на цепях да на веревках бочка просмоленная. Отвязали они эту бочку да в село привезли. А как вышибли у ней дно, полна бочка оказалась огурцов, да каких! Малосольных, как будто вчера спроворены. Махонькие, один к одному. В феврале! И без всяких холодильников да морозильников, вот как. Только, – огорченно добавляет дедУля, – съисть их надо побыстрее, потому как через два дня пожелтеют.4
Нюшка звонко смеется, представляя, как полдеревни питается одними огурцами, чтобы не пожелтели. БабУля в это время вяжет носки, а Степан Митрофанович лежит между ними, не веря своему счастью.
Или, скажем, в другой раз дедУля вспоминал, как он познакомился с бабУлей: увидел новую медсестру в амбулатории и на следующий день помчался туда же – делать предложение. Ну, натурально надел чистые портки, белую нейлоновую рубашку и помчался в амбулаторию.
– Приезжаю – и что? – возмущенно повышает голос дедУля. – А она там с Серегой Цыпляевым, кузнецом нашим, шурымурничает: за ручку его держит, только что не отплясывает. Шимми, понимаешь?
Нюшке непонятно слово «шимми», но ей все равно весело. Дед на такие вещи был мастак.
– О чем ты говоришь! – возмущается бабУля. – Цыпляева тогда змея укусила! Должна же я оказать ему помощь!
– Змея там точно была, – дедУля подмигивает Нюшке. – Смотри, девка, не связывайся с хитрой бабой. Она тебя схарчит без соли и хлеба просто так, из природной вредности.
– Ульян Захарыч! – кричит потерявшая терпение бабУля. – Она же ребенок, чему ты ее учишь?
– Тому, что девка может вырасти в бабу, а может – в женщину, – объясняет дедУля и замечает вкрадчиво: – Ты про то, Ульк, и не слыхала, поди.
– Где уж нам уж выйти замуж, – бабУля поджимает губы.
– Эх! – вздыхает дедУля. – Вот переселюсь в Землегорск, кто тогда ей глаза на жизнь откроет?
– Звонарь конюшенный, – комментирует бабУля и объясняет: – Если в девке есть женское начало, то и вырастет женщиной. А бабой становятся от воспитания.
– А Землегорск – это где? – спрашивает Нюшка.
БабУля всплескивает руками, а дедУля смеется:
– Это на два метра под землей!
Вот так у них проходили вечера.
Да, значит, дедУля сидел на сказке у телевизора и смотрел в беззвучный экран.
Особенно ему нравились фигуристые ведущие.
– Улька, ты погляди, какие буфера, – обращался он к бабУле.
– Отстань ты со своими буферами, – отвечала бабУля.
– Да не мои они и даже не твои, – вздыхал дедУля. – Да, сисястая – первый сорт!
– Вам, мужикам, одни сиськи на уме!
– Ну, ежели у бабы сисек нету, это уже не баба, а ко мне Мухтар какой-то, – задумчиво говорил дедУля. – Нет, баба должна быть бабой – чтоб обнял ее, и душа набекрень.
– Что ж ты меня взял, а не Зинку Голощапову? – переходила в контрнаступление бабУля. – Четвертый номер, как раз для тебя!
– Фу ты, чертовка, не понимаешь. В постели же хочется жену рядом иметь, а не корову молочной породы, – выкручивался дедУля.
– Положит она тебя на одну сиську, – смеялась бабУля, – а другой прихлопнет, как комара!
– Вот, Нюшка, – обращался к ней дедУля, незаметно подмигивая, – Видала, какие бабы бывают? Это, брат, тебе не жук чихнул!
С неослабевающим интересом смотрел дедУля так же репортажи из зоны боевых действий. Дело в том, что второй сын дедУли с бабУлей, младшенький, Петенька, Петро, Петр Ульянович, а для Нюшки просто дядя Петя, жил в Донецкой области и заведовал детским садом в богатом и крупном селе. Последний раз они виделись, когда Нюшке был годик (она ничего не помнит), а брат Андрей с женой были еще живы. Уговаривали его переехать поближе к старикам, он обещал подумать, да как-то не сложилось, а потом и не до того стало.
Так что теперь дедУля смотрел репортажи, в которых пушки безостановочно и беззвучно жарят в ночное небо: усталые солдатики в касках заправляли пушку смертью, приникали к ней на секунду, а потом отшатывались, а пушка подпрыгивала. Затем снова все повторялось по многу раз и разными подробностями.
– И-и, милай, – бормотал про себя дедУля. – Даже не посмотришь, куда содишь! Боекомплект не жалко?
БабУля крутилась за пятерых. Пенсии хватало на полмесяца; вторая половина была экзаменом на выживаемость, повторяемым из раза в раз. Летом она крутилась на участке вместе с Нюшкой, выискивая в зарослях бурьяна что-то съедобное. Сразу за углом у крыльца находилась отвоеванная у дикой природы грядка, которую по силам было вскопать бабУле – с луком и чесноком, – Нюшка до сих пор помнит вкус круто посоленного хлеба с вдавленными в него кусочками чеснока и прикрытого листиком щавеля или листовой горчицы – этакий витаминный бутерброд. А дедУля набрал по углам участка иван-чая, нарезал листья, скрутил да высушил, получился чай первый сорт. ДедУля хранил его в банке, на которой написал: «Вдруг Бонд».
Так и жили. Зимой же бабУля потихоньку, чтоб не видел дедУля, а особенно соседи по переулку, распродавала свои тряпки – в основном цыганке Тане: то шаль, то юбку плиссированную, то кофту мохеровую. Вот третьего дня она как раз приготовила Татьяне чудесный отрез саржевой ткани – черной, с диагональным отливом, мечта любой цыганки. Отложила, а утром не смогла встать с постели. Нюшке пришлось бабУле даже переносной унитаз выносить из кладовки, который хранился там на случай морозов или иной непогоды. БабУля пролежала весь день в постели, а ноги так и не отпускают. Нюшка сходила до магазина у станции, где ее знали и дали хлеба и угостили яблоком. Яблоко она принесла бабУле, и оно так и пролежало у нее на стуле у кровати.
Возвращаясь из магазина, Нюшка приметила у мусорных контейнеров два сломанных стула. Это был подарок небес, и она поволокла их домой, моля те же небеса, чтобы в переулке никого из соседей не оказалось. Как назло, из переулка на улицу выезжала машина. Нюшка схоронилась за сугробом. Это был дядя Витёк. Нюшку он, похоже, не заметил. Довольная и усталая, она вернулась домой со стульями. На дедУлю надежды было мало, поэтому Нюшка сама затопила печь. Она умела это делать с незапамятных времен, так что не заморачивалась по этому поводу. Она спалила первый стул, а на ночь пошел второй, учитывая звездное небо и забористый мороз. Сейчас печь медленно остывала, а дров больше не было.
Находиться в доме было невыносимо, и Нющка выскочила во двор. Ее деятельная натура жаждала действий. Во дворе лежала калабаха от березы – комлевая часть, массивная с одного конца и раздвоенная с другого. Какое-то время Нюшка с остервенением рубила ее топором, потом перестала. Такой и дедУля не возьмет. Такой дяде Вите по силам. Она обошла двор. Двор был раньше окружен забором, но с тех пор как жизнь похужела, Нюшка с дедУлей отбивали от забора по доске, а то и по две. Теперь забора не было; торчали только столбы, занесенные снегом выше Нюшки высотой. Бензопилы давно в доме не было, а ручной ножовкой Нюшка бы пилила столб до морковкина заговенья. Рядом с въездом на участок росла мощная старая береза, уходящая головой в низкое январское небо. Нюшка любила березу и в свое время отговорила дедУлю пилить ее на дрова. Сейчас она похлопала по ее стволу и пошла дальше. Она прошла до мусорных контейнеров. Ничего. Вернулась, еще побила березовый обрубок топором, бросила. Короткий январский день уже угасал, и она пошла в дом. ДедУля все также сидел на сказке, держа бабУлю за руку. Время от времени он вздыхал и спрашивал:
– Улька, ну ты как?
И бабУля тихим шелестящим голосом отвечала ему:
– Отбегала я свое, Ульяша.
ДедУля на все на это вздыхал протяжно. Слушать это было невыносимо, идти обратно из дома на мороз не хотелось. ДедУля с бабУлей продолжали тихонько переговариваться, а Нюшка пошла в подсобку. Так у них называлась комнатенка рядом с горницей, которая сначала служила кухней, а потом стала просто кладовкой для разного барахла, которое выбросить рука не поднимается.
Нюшка щелкнула выключателем, выпуская на волю свет из пыльной и тусклой лампочки. Здесь у входа был маленький столик с походной газовой плитой, вполне себе исправной, и пузатым баллоном, безнадежно пустым. Здесь стояли трех- и пятилитровые банки, бидоны, ведра, швабры, стертый до прутьев веник и еще один, новый, трогать который было жалко, две почти непользованные керосинки, алюминиевый бак, в котором стерилизовали банки и кипятили белье и коробка с импортным пылесосом, на которой очень было удобно сидеть Нюшке, тихой, как мышке. У входа на стене висело мутное зеркало с ровными полосками наискосок. Нюшка боялась в него заглядывать. В стене было окно, заклеенное пожелтевшей от времени пергаментной бумагой. Справа от окна до угла тянулась полка со всякого рода мелочью: банками, бутылками и никому не нужными тубами с мастикой, которую бабУля называла «гэдээровской» и очень берегла. А слева от окна были прикноплены к стене две картинки. На одной лихой носатый дядька в гимнастерке, похожий на дедУлю (а сам дедУля говорил шепотом, что на Сталина), подкручивал ус и подмигивал смотрящим на него. Картинку сопровождали надписи: «Дадим по 100 кг молока с каждой коровы в месяц!» и «Дадим по 400 кг мяса в год!» На второй надменная женщина в берете и взглядом снулого леща, подняв брови и сделав губы куриной гузкой, пыталась понравиться зрителю. Называлась картинка «марлендитрих», а что это значит, Нюшке никто не объяснил. БабУля говорила, что «марлендитрих» похожа на ее мать, прабабушку Нюшки Лидию Сергеевну, и что Нюшка – просто вылитая «марлендитрих», на что Нюшка, пока была маленькой, всегда обижалась и начинала реветь.
Здесь пахло керосином, краской и мастикой, но странным образом эти запахи приглушали мороз. Нюшка посидела на коробке с пылесосом, подняв воротник шубейки и сунув руки в карманы. Деваться некуда – надо идти спать.
Диспозиция по первому этажу.
Горница была просторная, с высокими потолками, непохожая на помещение в бревенчатой избе. Сын Андрей за год до своего злополучного отпуска сделал ремонт справный. Стены были выложены гипроком и оклеены заграничными обоями, пол – шпунтованной доской (от ламината Андрей отказался – из-за Степана Митрофановича, а Облая тогда еще не было). Потолок же был подвесной, кремового немаркого цвета. Справа от входа – печь, вернее, плита, обложенная шамотом, так что может топиться и дровами, и углем. Под плитой – лист оцинкованного железа, по пожарной безопасности. За плитой стояк, да не простой. Мастер-печник все по уму сделал. Чего ж не сделать, ежели дымоход позволяет? В общем, дым из плиты идет не в стояк, а, как бы это сказать, в лежак кирпичный, метр на два, а уж потом делает обратный поворот и идет по стояку, который образует теплую стенку с лежаком. Ох, и здорово валяться на этом лежаке, когда печь протоплена! У Нюшки с дедУлей всегда войн была, кому лежать. Ну, дедУля вечно проигрывал. А вот Степан Митрофанович, тоже любитель в тепле понежиться, сдаваться не желал и умудрялся занять бОльшую часть лежака.
Плита со стояком отгораживали от комнаты кухонный угол со столиком и настенным шкафом со всякими там тарелками да сахарницами.
В углу перед лежаком-стояком находились кровати дедУли с бабУлей, разделенные сказкой, а на стенке висел плоский телевизор – последний подарок сына Андрея родителям на Новый год. А над сказкой висели настенные часы, которые дедУля заводил каждый вечер, с кряхтеньем забираясь на сказку.
Рядом с кроватью бабУли стоял комод для белья – старинный, резной, со множеством ящичков и полочек. Верхние два ящичка отводились под документы. Они вечно были забиты разными медицинским анализами и страшными рентгеновскими снимками дедУли, когда он начал кашлять и жаловаться на боль в груди. Нижний ящик был Нюшкин: там хранились всякие ее трусики да маечки, носочки да колготки.
Слева у стены с окном был разостлан по полу ковер, старый, местами вытертый до основы, на котором любил валяться Облай. Сейчас-то он жался поближе к печке, не понимая, почему так холодно.
На ковре стоял стол. Он раздвигался, так что за ним могли усесться человек десять. Но дедУля ценил стол не из-за этого, а из-за того, что он был прочный и основательный и легко мог выдержать гроб с телом дедУли, когда придет пора его похоронить. БабУля при этом начинала плеваться и с грохотом передвигать по плите сковородки. Правда, последние года два-три дедУля свои шуточки прекратил.
Слева от стола стояло трюмо, перед которым любила вертеться Нюшка, двигая зеркала так, что в них отражались три Нюшки, и показывала все трем язык одновременно.
А в левом углу за трюмо находилась кровать Нюшки, сделанная дедУлей навырост. Еще недавно Нюшке казалось, что в кровати можно потеряться, а сейчас было ясно, что еще через пару лет ей надо что-то придумать. Ну, кто ж в наше время думает, что с ним будет через пару лет?
Кровать Нюшки была отгорожена от входной двери шкафом с верхней одеждой дедУли с бабУлей. Сбоку шкафа дедУля привинтил крючок, на котором Нюшка вешала свою шубейку.
Там же стоял маленький электрический обогреватель. Еще один находился между кроватями дедУли с бабУлей. Впрочем, когда бабУля слегла, Нюшка перетащила свой обогреватель поближе к бабУле. Обогреватели были маломощные, грели в основном сами себя, но это было лучше, чем ничего.
Итак, Нюшка погасила свет в подсобке и вернулась в горницу. Надо было погасить свет и лечь, но что-то насторожило ее. Потом она поняла: дедУля стоял над сказкой с откинутой крышкой и что-то доставал из нее. Она подошла поближе и онемела от неожиданности и страха. Неожиданность от того, что льняные саяны, извлеченные из сказки, тягучие, долгие, прохладные в жаркую погоду, сейчас, в стылой, давно нетопленой горнице выглядели дико, как детская соска на шее взрослого человека. А страх от того, что Нюшка поняла: пока она отсутствовала, бабУля просила дедУлю подготовить ей один из саянов, в котором бабУля собиралась помереть. Саян, обычно самый нарядный и богато украшенный, использовали как смертное. Правда, в смертное облачали уже после того как покойницу обмоют, но Нюшка догадалась, что бабУля не хочет, чтобы эту работу сделал дедУля: не мужское это дело, а Нюшка для этого слишком мала. Поэтому она решила заранее надеть саян и ждать своего часа.
Все это время Нюшка стояла, сжимая и разжимая кулачки, а потом бесстрашно ринулась вперед.
– ДедУля, миленький, бабУлечка, родненькая, не надо саяна, спрячьте его обратно! – закричала она. – БабУля, ты в такую холодину станешь его надевать? Что ж я, совсем вам чужая – все без меня решаете?
Она кричала, но самое страшное свое оружие в ход не пускала, держала в запасе. Самое страшное – это когда она начинала визжать. Старики перепугались, это было видно, и сейчас пребывали в растерянности. И тогда для верности она топнула ногой.
– Уйду я от вас, – сказала она. – Раз вы такие. Злые и бесчувственные. Вот оденусь и уйду, куда глаза глядят.
ДедУля поглядел на бабУлю. И бабУля сказала слабым голосом, почти прошептала:
– Ладно, внученька. До утра… Погодим.
ДедУля, кряхтя, стал разбирать свою постель. А саян-то, саян, тот самый, в котором бабУля пела на концерте, оставил на сказке, гад такой.
– Будем спать со светом, – решила Нюшка и направилась к своей кровати.
– Гаси, – тихо прошелестела бабУля. – Слово тебе дадено.
И тогда Нюшка погасила свет и тоже легла.
3.
Лежать в своей постели под одеялом в верхней одежде было непривычно. Холод проникал под одеяло и начинал покусывать пальцы ног и рук. Нюшка задвигала под одеялом руками и ногами, а также головой в разные стороны, чтобы согреться. Потом она представила, как выглядит со стороны и захихикала.
В горнице было темно, но не совсем. Свет фонаря, поставленного в самом начале переулка, не долетал даже, а доползал до окна их дома умирающим зверенышем и сворачивался в клубок в кухонном углу за стояком. Если приглядеться, то можно разглядеть силуэты печки, стояка и мебели.
Время от времени в переулок сворачивала машина, и свет ее фар на мгновение освещал сполохом горницу и так же быстро превращался в мелькание светлых и темных полос на потолке.
Неизвестно, сколько она так пролежала: час или полночи, – сон так и не шел. Лежать без движения оказалось еще холоднее, чем ходить. Ее деятельная натура требовала какого-то полезного дела.
Нюшка приподнялась в постели на локтях, и в этот момент в сенях протяжно заскрипела входная дверь.
Нюшка застыла без движения. Воры, подумала она, цыгане. Да нет, за цыганеми такого не бывает: у своих по соседству они не промышляют.
Мучительно долго ничего не происходило, а потом горницу стало заполнять невыносимое зловоние, как будто в дом внесли издохшую две недели назад свинью. Когда вонь стала страшной, сквозь дверь из горницы в сени стало просачиваться нечто бесплотное, вроде болотного, грязно-зеленого, слабо мерцающего дыма. Действия его были основательны и неторопливы: из зеленого мерцания вытягивались во все стороны тонкие щупальца, которые тут же пропадали, а рядом вырастали новые, и зеленое клубящееся нечто с каким-то чмоканьем, бульканьем и чавканьем вспухало еще больше, постепенно заполняя горницу.
И Нюшка своим маленьким пониманием рано повзрослевшего ребенка поняла: это не Зло, противоположность Добра, потому что и то, и другое есть всего-навсего отношение человеков к происходящему. Сейчас же перед ней была безликая и бездушная противоположность Блага – великое Худо, как олицетворение всех последних несчастий в доме.