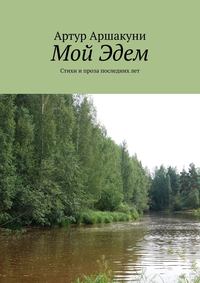
Мой Эдем. Стихи и проза последних лет
И тогда она завизжала. Не так, как пару раз до этого, сдерживая себя из чувства жалости к окружающим. Она просто открыла шлюзы переполняющего ее страха пополам с гневом и без остатка отдалась привольному течению собственного визга.
Одновременно с ней яростно залаял из-под бабУлиной кровати Облай. Лаял он смешно и странно: при каждом взлае на высокой визгливой ноте храбро выскакивал из-под кровати на шаг, а потом с нисходящим басовитым воем уползал обратно под кровать.
Потом к ним присоединился вой Степена Митрофановича, напоминающий нисходящий звук пикирующего на цель бомбардировщика. Сначала он выл под бабУлиным одеялом, а потом – Нюшка догадалась по звуку – выскочил из-под одеяла на кровать.
И кричал вместе с ними что-то невразумительное дедУля, отвернув к потолку лицо со слезящиеся глаза и раззявив беззубый рот с розовыми катышками десен. Нюшка ясно представила это в темноте, потому что дедУля не раз хохотал, вот так же запрокинув к потолку голову и разинув рот.
И даже бабУля, в молодости комсомолка и активистка борьбы с поповщиной, бормотала что-то засевшее у нее в памяти, что-то вроде «иже еси» и «даждь нам днесь».
И в довершение всего в отдалении бабахнул ружейный выстрел.
И великое это Худо замерло на мгновение, а потом стало втягивать в себя ложноножки и втягиваться обратно в щели двери. Звякнуло ведро в сенях, проскрипела входная дверь, и наступила тишина, как будто ничего и не было.
Нюшка на негнущихся ногах прошла к выключателю и зажгла плафон. Потом схватила хлебный нож с кухонного стола и прошла в сени, вернулась, вернула нож на место и вернулась в сени. Слышно было, как звякнул в ее руке поднятый с пола топор и скрипнула дверь, когда она вышла во двор.
Во дворе занимался тусклый январский рассвет. Мороз стиснул ее со всех сторон. Она огляделась. Так же валялась раздвоенная калабаха, так же высились у столбов сугробы.
Нюшка с остервенением всадила топор в калабаху раз, другой, третий. Топор увяз в древесине. Нюшка выпрямилась. Что-то щемило внутри, но она запретила себе плакать.
А потом сзади нее заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами. Нюшка обернулась. Громадная черная фигура надвигалась на нее, вырастая с каждым шагом и заполняя все небо.
Фигура остановилась перед ней.
– Нюшка, – сказала она, – у вас все в порядке?
Это был дядя Витёк, одетый в теплый косматый малахай, в каком ходят зимой охотники или рыбаки на налима в ночную рыбалку.
У нее не было сил отвечать. Язык словно примерз к гортани.
Дядя Витёк сел перед ней на корточки.
– Ну, что ты, девушка – сказал он. – Совсем худо?
И тогда Нюшка бросилась в меховые складки его малахая и, борясь с душившими ее слезами, выпалила ему все. Ее словно прорвало. Так долго без остановки она не говорила никогда.
Дядя Витёк отодвинул ее от себя и поднялся.
– Так, – сказал он. – Ты, Нюшка, жди, я сейчас. Поняла? Я сейчас, туда и обратно. Поняла?
И он быстро пошел, почти побежал со двора.
Нюшка вернулась в дом. ДедУля все так же сидел на сказке, держа бабУлю за руку. Степан Мирофанович высунул из-под одеяла ухо и один глаз. И только Облай не бросился, как обычно, ей навстречу со звонким лаем, а выполз из-под кровати, попытался подойди к Нюшке, но рапы его подогнулись, и он завалился на бок.
– Облаюшка! – испугалась Нюшка.
Облай попытался ползти в кухонный угол, где у него стояла миска с водой. Нюшка пошла за миской. Вода в ней покрылась тонкой ажурной паутинкой льда с белыми прожилками. Нюшка раздавила пальцами лед и поставила миску перед Облаем.
– Пей, Облаюшка, пей, – сказала Нюшка. – Хороший Облай, самый лучший в мире.
Облай постучал хвостом по полу в знак того, что слышит Нюшку и одобряет ее слова. Она погладила его. Храбрый бесстрашный пес был холоден, как лед в миске водой. Нюшка взяла его на колени. В холодном собачьем тельце отчаянно колотилась сердце, как у зажатого в кулаке воробья. Нюшка положила Облая в свою постель и решительно двинулась к Степану Митрофановичу.
– Друг ты или не друг? – сказала она ему строго. – Ну, и помоги ему, раз друг.
Она обложила маленького Облая гигантским Степаном Митрофановичем, как тюфяком. Кот не противился. Наоборот, он завел свою негромкую умиротворяющую песню, а Облай положил ему голову на задние лапы и вздохнул.
Долго что-то. Нет, не придет. Нюшка представила, как рослая и дородная тетя Ангелина, жена дяди Витька, недовольная, гремит у себя на кухне сковородками.
– Связался с нищебродами! – говорит она. – Если тебе я не нужна, о сыне хотя бы подумай!
А потом представила, как сын дяди Витька, Васёк, подбегает к отцу и хватает его за колени.
– Папа, папа! – плачет он. – Не ходи туда!
Нюшка оставила кота и собаку и снова вышла во двор.
Нет, ждать уже нет смысла. Совсем рассвело и тропа просматривалась до бывшего картофельного поля.
Она подошла к калабахе и, закусив губу, стала выдергивать из нее застрявший топор.
А потом она услышала скрип колес. Потом еще, ближе.
На тропе показалась нестрашная уже фигура дяди Витька. Дядя Витёк толкал здоровенную алюминиевую тачку, дотолкал ее до Нюшки и остановился, утирая пот с лица.
– Ну, девка! – прохрипел он. – Загадала ты задачку! Держи!
И он вручил ей пакет с чем-то тяжелым. Она быстро вбежала в дом, с грохотом положила пакет на кухонный стол и вернулась обратно.
Потому что в тачке было кое-что намного более интересное. На самом верху лежали сухие сосновые чурочки и кусок бересты для растопки. А вся тачка было полна угля – крупного, просеянного, с два ее Нюшкиных кулачка.
– Ведро есть под уголь? – спросил дядя Витёк и с грохотом высыпал тачку за углом под навесом, где была мастерская дедУли. – Отсюда брать будешь. Растопить-то сама сможешь?
Он снова вытер потное лицо.
– Пст! – сказала презрительно Нюшка и побежала с растопкой в дом. Она боялась остановиться, потому что ноги могли отказать ей – впервые за недолгую ее жизнь.
ДедУля стоял у кухонного стола, рассматривая вынутые из пакета лимон, пачку чая, шмат сала, пяток картофелин и кусок мяса с косточкой, так что хватило бы и на суп, и на второе, и Облаю со Степаном Митрофановичем досталось бы.
– ДедУля, ничего не трогай! – крикнула Нюшка, чиркая спичкой. – Я все сделаю!
Береста занялась, а за нею затрещали сосновые чурки. Нюшка снова вышла во двор с ведром.
Дядя Витёк что-то говорил по мобильнику. Закончив разговор, он повернулся к Нюшке.
– Звонил знакомому поставщику – сказал он. – Парень надежный, обещал в течение часа привезти. Вам до весны три тонны хватит?
Нюшка с трудом поняла, что дядя Витёк говорит об угле. Три тонны. – это сколько?
– Да, – сказала она. – Да, конечно, хватит.
– И мы подгребем, – сказал дядя Витёк. – Не боись, деваха!
– Я не боюсь, – вырвалось у Нюшки.
Дядя Витёк посмотрел на нее сверху вниз. И тут Нюшка не выдержала.
– Дядя Витёк, – сказала она. – Ты бог? Или ты из сказки?
Дядя Витёк опять присел перед ней на корточки.
– Нет, сказал он серьезно. – Я не бог. И не из сказки. А вот у тебя, Анна Андреевна, сердце огромное, хоть ты сама еще под стол пешком ходишь.
– Я не хожу, – сказала Нюшка. – Я выросла.
– Ух ты, – сказал дядя Витёк и потрепал ее по щеке.
А потом поднялся.
– Ладно, – сказал он. – Жди машину.
Он ушел.
Нюшка вернулась в дом, подбросила уголька в печку. Печь гудела, как идущий на взлет истребитель. Печка жарила вовсю, хотя еще темнели противные пятна сырости по углам.
ДедУля сварганил чаю с лимоном, порезал сало. Всем досталось, даже Степану Митрофановичу с Облаем. Облай уже лежал на привычном месте под кроватью, хотя и не лаял.
БабУля маленькими птичьими глотками отпивала чай с лимоном.
Нюшка с удовлетворением отметила, что саяна рядом с ней уже нет.
Сало каждый ел по-своему. ДедУля откусывал от сала маленький кусочек, как раз по зубам, и жевал его, пока жевалось. Потом, когда сало истаивало во рту, на лице его появлялось выражение изумления пополам с детской обидой. БабУля облизывала кусочек сала и обсасывала, как эскимо, со всех сторон, не теряя головы и с чувством собственного достоинства. Степан Митрофанович положил кусочек перед собой между лап и разглядывал его, склоняя голову то влево, то вправо, как художник, примеряющийся к обнаженной натурщице. Время от времени он обнюхивал кусочек, чтобы убедиться, что сало никуда не делось, и продолжал эстетствовать. Облай же поступил проще всех: он мгновенно проглотил причитающийся ему кусочек и теперь глядел на всех черными маслинами глаз и стучал хвостом по полу, словно говоря: «Ребята, без обиды. Бог дал, я съел». Чувствовал он себя превосходно и, судя по всему, продолжал неколебимо верить в своего собачьего бога.
В шубейке находиться в доме становилось по-настоящему жарко. ДедУля предложил Нюшке сала, она отказалась, пощупала мясо на кухонном столе: пусть себе размораживается. Этот день, начавшийся таким чудесным образом, еще продолжался.
Степан Митрофанович поднял голову. Следом тявкнул Облай, а потом и Нюшка услышала звук мотора грузовика. Она выскочила из дома в тот момент, когда «КамАз» задом, приминая сугробы, подъехал к столбам ограды. За ним показалась уже привычная и совсем нестрашная фигура дяди Витька. Дядя Витёк махнул рукой, грузовик остановился. Только сейчас Нюшка заметила за грузовиком группу людей. Здесь были Писатель и дядя Автандил, пара цыган из соседнего дома, а также тетя Ангелина, жена дяди Витька, с сумками на руках. Отсутствовали только дядя Олег, обладатель неисправного «Мерседеса» – жена объяснила, что гриппует – неприметный дачник из города (он приезжал только на лето) и алкаш из первого дома по переулку – ну, с ним все ясно.
Нюшка провела тетю Ангелину в дом, где та, сняв куртку и платок с головы, сразу стала хлопотать в кухонном углу и греметь кастрюлями и сковородками. Нюшка невольно улыбнулась, вспомнив свое недавнее видение. Она поспешила обратно на улицу. Водитель уже поднимал кузов, и черная угольная масса с грохотом высыпалась на землю. Дядя Витёк рассчитался с водителем, и тот, опустив кузов, укатил. К дяде Витьку подошли цыгане и стали просить отпустить их домой одеться потеплее. А и правда – мороз стоял трескучий – Нюшка такого и не помнила. Небо прояснело, и над всей этой скованной морозом землей высился лазоревый, обещающий чудеса невесомый купол.
– Пятнадцать минут даю, Графо, – сказал цыганам дядя Витёк. – Ты меня знаешь: не придете, из-под земли достану.
Цыгане побежали через картофельное поле к себе. Теперь, когда здесь прошел грузовик, бежать по колее было значительно легче.
Писатель затеял с дядей Автандилом спор на тему, возможна ли документальная проза в постмодернистском стиле. К сожалению, дядя Витёк прервал их спор.
– Не знаю, как там документальная проза, – сказал он им страшно, – но эпитафия точно возможна.
Он вручил им совковые лопаты. Они должны были нагружать тачку дяди Витька, а дядя Витёк отводил уголь под навес за угол дома. После трех тачек они должны были меняться местами, чтобы не устать и не замерзнуть.
Подошли цыгане, одетые как немцы под Сталинградом, в какие-то башлыки, ушанки и пуховые платки. Сейчас работать стало гораздо легче: цыгане встали насыпать тачку, Писатель с дядей Автандилом – возить тачку, а дядя Витёк собирал лопатой кучу под навесом повыше и покомпактнее.
Писатель с дядей Автандилом продолжали разговаривать и спорить. Писатель так и сказал дяде Витьку:
– Милый мой, ты можешь расстрелять меня, но учти, что я буду артикулировать расстрел до последней минуты. Что поделать – интеллигент вшивый.
Цыгане вошли в раж, поймали общий ритм и вскоре стали скидывать с себя башлыки и пуховые платки.
– Графо, – хищно улыбался дядя Витёк, – Дарвин случайно не твой дядя?
Цыгане улыбались белоснежными улыбками на смуглых лицах, не понимая.
Дядя Витёк бросил лопату:
– Перекур!
Цыгане загалдели, снова натягивая на себя платки.
Писатель с дядей Автандилом продолжали разговор.
– Милый мой, – говорил Писатель, – вы такой же писатель, как я. Вам так же, как и мне, присуще особое отношение к слову. Вы чем занимаетесь?
– Работаю в маленькой производственной фирме.
– Э! – поморщился Писатель и махнул рукой. – Это для семьи, для куска хлеба. А для себя? Для души?
– Я блогер на «Эхе Москвы», – виновато сказал дядя Автандил, – и веду колонку в районной газете.
– Да мы с тобой одной крови! – захохотал Писатель.
– Нюшка, ты какие-нибудь стихи знаешь? – спросил дядя Витёк. – А то почитай, будет приятно.
И Нюшка, оглянувшись на березу, розовую в лучах утреннего солнца, продекламировала, старательно проговаривая слова:
Белая береза под моим окномПринакрылась снегом, словно серебром…– Девочка, откуда ты Есенина знаешь? – спросил Писатель.
– И при этом почему в школу не ходишь? – добавил дядя Автандил.
– Ты поэтому нам не дала эту березу спилить? – спросил дядя Витёк.
– Разве она не красавица? – кивнула Нюшка.
– Красавица, – согласился дядя Витёк. – В нашем переулке другой такой нет.
В это время появился вечно пьяный сосед из первого дома по переулку. Сейчас он был не пьяный. Про таких в народе говорят: дунувши. Он суетливо пытался всем помочь, переходил от одной бригады к другой, потом нашел себе занятие – куском ДСП прикрыл рассохшиеся дверцы оголовка колодца. И то правильно: чтобы вода в колодце не замерзла.
Дядя Витёк поднялся.
– Ну что, ребятушки, погнали наши городских. Немного осталось, уж извиняйте.
Работа возобновилась.
Нюшка пошла в дом.
В горнице вкусно пахло только что приготовленной едой. Тетя Ангелина расстаралась: на первое у нее вышли свежие щи с мясом, на второе – тушеная с мясом картошка, а на третье – компот из сухофруктов. Она переставляла в кухонном шкафу баночки с какими-то корешочками, дедУлин «Вдруг Бонд». Лицо у нее было омертвелое. Потом она села у стола, продолжая слушать бабУлю, закрыв пол-лица концом фартука.
– Тетя Ангелина, – спросила озадаченная Нюшка, – ты, что ли, плачешь?
– Нет, деточка, нет, милая, – испугалась тетя Ангелина. – Просто соринка в глаз попала, деточка моя хорошая!
В сенях хлопнула дверь, раздался зычный голос дяди Витька:
– Эй, Геля, тебе хозяева не надоели?
– Иду я, иду! – отозвалась тетя Ангелина и высморкалась в платок, извлеченный из кармана. – Нетерпеливый какой, – добавила она вполголоса.
– Мужик, – с удовольствием сказала бабУля.
Нюшка снова вышла во двор. Работа была сделана; у въезда на участок темнел круг на снегу, где только что находилась угольная куча, теперь надежно упрятанная под навес.
Вдалеке шли по картофельному полю Писатель с дядей Автандилом и продолжали о чем-то увлеченно разговаривать.
Вышла тетя Ангелина. Стали прощаться. Нюшка не любила эти приветствия-прощания, когда нужно показывать бОльшую приветливость, чем та, которая была для нее естественна. Тетя Ангелина обещала заглядывать к ним раз в неделю. Наконец, двинулись в путь: дядя Витёк впереди, толкая телегу, а за ним – тетя Ангелина.
Цыгане еще были здесь, укрывали кучу угля под навесом куском полиэтилена. Алкоголик из первого дома крутился тут же, все ходил вокруг колодца, любовался своей работой.
Нюшка подошла к березе. Заиндевевшие ветки светились в лучах солнца, которое перестало быть по-утреннему красным, а стало бело-глазам-больно-желтым. Уходя в безоблачное синее небо, береза светилась, как гигантская хрустальная люстра.
Нюшка хлопнула по стволу рукой. В воздухе заплясали разноцветные искры. Их становилось все больше, наконец, вся береза от макушки до комля окуталась облаком сверкающих на солнце блесток.
Нюшка подбоченилась и громко, уже никого не стесняясь, прокричала:
А заря, лениво обходя кругом,Обсыпает ветви новым серебром!– Ишь ты! – сказал чей-то голос.
Нюшка прикусила язык.
Во двор вошел мужчина в милицейском полушубке, валенках, шапке-ушанке и теплых рукавицах на руках. Нюшка его смутно помнила. Это был начальник поселковой полиции Мамочкин Михал Михалыч.
– Здравствуйте, – сказала Нюшка, чтобы побороть смущение. – Заходите в дом.
– Зайду, не сумлевайся, – сказал Михал Михалыч. – Вот проведу беседу и зайду.
Он прошелся по двору, заглянул за угол, под навес, где цыгане заканчивали работу. Подошел к одному из них, зачем-то достал фонарик из кармана полушубка.
– Лобанов Евграф, – сказал он, посветив фонариком тому в лицо и перешел ко второму. – Васильев Николай, – он выждал паузу. – Ориентировок на вас, к сожалению, не поступало. Так что бывайте здоровы, гости дорогие.
Цыгане споро двинулись к себе. Сосед-алкоголик увязался с ними.
– Скажите, – не утерпела Нюшка, – а фонариком в лицо зачем? Вон какое солнце!
– Это для острастки, – засмеялся Михал Михалыч. – Когда тебе фонариком в лицо светят, это, брат, и на папу римского подействует.
Нюшка открыла ему входную дверь. Михал Михалыч вошел в сени, споткнулся о ведро с водой, поставленное несообразительным соседом-алкашом, и вошел в жарко натопленную горницу.
– Нюшка, давай за стол! – скомандовал дедУля, потом увидел входящего и осекся. – Михал Михалыч, какими судьбами? Садись, исть будем.
– Спасибо, сыт, – ответствовал Михал Михалыч, сел за стол, положил перед собой шапку и расстегнул верхний крючок полушубка.
– Давно не заходил, – дипломатично сказал дедУля.
– Дела.
– Понятно.
– Как здоровье, Ульян Захарыч? Ульяна Никитична?
– Слушай, Михал Михалыч, – сказал дедУля, – Не девку уламываешь. Ты же пришел не о здоровье балакать, я же вижу. Начинай сразу, без предисловья.
Михал Михалыч подвинул стул в сторону стариков.
– Я только из города. Добились мы все-таки своего, – сказал он. – Губернатор вчера подписал постановление об учреждении ежегодной премии имени Андрея Лукьянова. Она будет вручаться лучшему полицейскому. Сначала попробуют в районе. Пойдет – внедрят в области. А там, глядишь, и всероссийской станет.
Он помолчал. Все сидели тихо, не шелохнувшись. Потом Михал Михалыч встал по стойке «смирно» и казенным тоном сказал:
– Первую премию единогласно решено присудить родителям Андрея Лукьянова, – он полез в нагрудный карман полушубка и положил на стол конверт. – Вот. Пятьдесят тысяч рублей. Негусто, но, как говорится, деньги не главное.
Он взял шапку.
– Пошел я, служба, – сказал он. – Я очень рад, вы не представляете как.
– Михалыч, – сказал дедУля. – Твои-то дела как?
Михал Михалыч помолчал.
– Съели меня, – сказал он негромко. – Сдаю дела. Потому и рад, что с премией Андрея успел.
– Что ты говоришь? – сказал дедУля. – А кто вместо тебя?
Михал Михалыч махнул рукой и рассмеялся.
– Узнаете, – сказал он. – За глаза слова худого не скажу. Человек как человек. Нерусский только. Ну, прощайте.
Он надел шапку и вышел. В сенях звякнуло ведро, хлопнула входная дверь. Наступило молчание.
4.
Нюшка вышла следом за Михал Михалычем, но не во двор. Береза с утра была такая красивая, а сейчас уже заполдень, набежали тучки, она видела в окно, и береза уже не сказочная, а обыкновенная. А в горнице жарко, не продохнуть. Старикам-то хорошо кости погреть. Пусть их. Так что она вышла в сени и стала подниматься по лестнице. Облай шмыгнул в дверь за ней следом. Ему тоже было жарко. Удивительное это было создание, с сердцем героя и размером с кроссовку. Он категорически не умел сидеть неподвижно и двигаться размеренно и с достоинством. И, хотя после пережитого он двигался с трудом, сейчас он, отчаянно работая лапами и смешно виляя задом, старался не отстать от Нюшки, идущей по лестнице на второй этаж.
Диспозиция по второму этажу.
Строго говоря, это был не второй этаж, а хорошо утепленный чердак, или мансарда. Сын Андрей, закончив ремонт, с гордостью говорил приятелям, что зимой наверху можно зажечь свечу, и тепла от нее хватит, чтобы нормально жить.
Мансарда эта в плане представляла собой крест, с окнами на всех концах креста, с короткой и толстой и длинной и узкой поперечинами. В узкой поперечине у окна была лестница, откуда за дверью был коридор, ведущий через широкую поперечину, с помещениями по обе стороны. Справа, куда выходил дымоход от печки, находилась спальня с двумя кроватями, двумя шкафами и детской кроваткой в углу. ДедУля в свое время спустил ее вниз, и в ней спала Нюшка, пока не выросла. Тогда ее вернули на место, а дедУля смастерил Нюшке новую кровать, нынешнюю. Здесь вообще все вещи стояли на своих местах: ночник у изголовья папиной постели, туалетный столик с зеркалом у маминой. С одной стороны комнаты был побеленный дымоход, проходящий через крышу наверх, с другой, маминой, стоял обогреватель.
Слева по коридору были три комнатенки: что-то наподобие уборной, с отхожим ведром и дачным умывальником, которым никто, кроме мамы, не пользовался. Это справа от окна. Слева от окна была маленькая комнатенка с книжным шкафом и полками, уставленными книгами: Пушкин-Лермонтов, Маяковский-Есенин, ну, и так далее. Было несколько детективов в ярких обложках. Здесь было темно, потому что мама говорила, что книги выцветают и желтеют на солнце. Так объясняла Нюшке бабУля, потому что сама Нюшка ничего этого не помнила.
А центральная дверь слева по коридору вела в комнату, которая считалась кабинетом для того из родителей, кому надо было уединиться, чтобы поработать. Там стоял стол с ноутбуком и простеньким принтером. Поскольку папе, кроме служебных записок и рапортов, ничего писать не приходилось, кабинет в основном использовала мама для своих анкет и читательских карточек.
Коридор вел в отдельную комнату прямо, на конце короткой крестовины, которая предназначалась Нюшке, когда она подрастет. А пока папа использовал ее как склад для самых ценных инструментов: электролобзика, электрорубанка, шуруповерта, дрели и прочего. Сейчас-то почти ничего из этого не осталась, но комната – вот она.
Была еще одна вещь, которая не стала экспонатом в этом музее – мобильный телефон. Был у папы второй мобильник, запасной, который он, уезжая, со смехом отдал отцу:
– Следи за ним – вдруг да позвоню. Твой-то старый, батя, давно сменить пора. Вот вернусь, и забирай этот. Сим-карту поменяю, и пользуйся.
ДедУля держал с тех пор телефон постоянно при себе, заряжал, вносил плату за него. Свой старенький забросил, а этот берег, следил за ним, подолгу крутил в руках, рассматривая. Хотя, подумать, что здесь такого? Был человек, сейчас его нет, а вещь его осталась. Зачем из этого устраивать проблему?
В общем, не любила Нюшка из-за этого второй этаж. Не то чтобы не любила, а оставалась равнодушной к родительской мебели, одежде, вещам. Родителей она не помнила вовсе, всю жизнь с ней были бабУля с дедУлей, а папа с мамой были такими же плавающими в тумане понятиями, как родина, или гуманизм, или прогресс.
Хотя ко второму этажу это не имеет отношения.
Нюшка пошла вниз. Облай следом. Он тоже не любил бывать наверху. Людей здесь нет, котов тоже. Гонять под кроватями катышки пыли – щенячья радость, недостойная взрослого и солидного пса.
В горнице было по-прежнему жарко. БабУля забралась на лежак и сейчас млела на горячих кирпичах, грея старые кости. Степан Митрофанович всячески мешал ей, распластавшись от стенки до края и раскинув в стороны лапы и хвост. Сдвинуть его с места можно было только через смертоубийство.
ДедУля сидел за столом, выскребая из тарелки остатки картошки с мясом, потом облизал ложку. Покосился на телефон рядом на столе у окна.
– Нюшка, ты одна не поела. Заполдень! Садись, поешь сейчас же!
– Потом.
– Потом будет компот, – сострил дедУля. – Картошка с мясом – ух, вкуснотишша!
– А вот компота я попью, – решила Нюшка и подошла к холодильнику, достала кастрюлю с компотом и половником налила себе желто-коричневой жидкости в кружку. Компот оказался вкусным – не приторным, а с легкой кислинкой, как хорошо замаскированная шутка в разговоре.
– Завтра же с Витьком рассчитаться надо, – сказала бабУля.
– Это всенепременно, – отозвался дедУля.
БабУля убрала конверт в верхний ящик комода.
– Картоха удивительная, – рассуждал тем временем дедУля. – Сама белая – вон очистки в ведре, а мясо желтое. Кубинская, поди.
– С них станется, – поддакнула бабУля, и непонятно было, осуждает она «их» или восхищается.
– Улька, а знаешь, почему у кубинской картохи мясо желтое? – невзначай спросил дедУля.
– И-и, слушать даже не хочу, – отмахнулась бабУля. – У тебя одни глупости в голове.
– Ульк, я серьезно, – сказал дедУля и подмигнул Нюшке. – На Кубе один песок, удобрений в земле не хватат. И жарко – у-у! В январе ночью, как у нас в июле днем! А кубинским девкам тоже потискаться хочется.
– Ульян!

