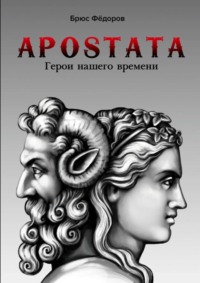
APOSTATA. Герои нашего времени
Уж лучше сразу стать под пулю автоматную, успокоиться. Да дети на руках малые и жёны за спинами в голос воют под штыками длинными, английскими и прикладами дубовыми. Что делать? Деваться боле некуда. Видно, такова судьба наша – разлучница. Умирать приходится не в бою честном, за правду и счастье народное, а за выдумку пустую, обманную, за обещания ложные. Уж лучше утопиться в омуте глубоком, где сомы усатые, свои, родимые, да кто ж позволит это – Дон тихий поганить. То заслужить надобно.
А раз так, что нельзя умереть нам по желанию по последнему, прыгнули казаки в ту речку студёную, форельную, чуждую, прижимая к себе детей своих безвинных, несчастливых. Опять поплыли по водной глади фуражки и папахи синеверхие. Поплыли в безвременье. Не зазвенят для них колокола на святую Троицу.
Так сколько ж можно народ простой, доверчивый боронить да перепахивать? Извести ведь под корень можно. И так мало родов древних казачьих на Дону осталося. Не восстановят переселенцы охочие славу былую казачью. Некому будет сказать, как прежде, как ранее, что «казачьему роду нет переводу».
Долго ещё стоял Егор. О разном думал. Вспоминал слова песни вчерашней, что пели старики. Крепко стальными гвоздями вбилась она ему в сердце. Не стереть, не выкорчевать:
«Руки задрожали, боже мой,Я зарубил младшого собственной рукой.Руки задрожали, боже мой,Я зарубил младшого собственной рукой.Чуб его белёсый ветер теребит,Как живой курносый в ковыле лежит.Ты прости за то, что разглядеть не смог.Что скажу я мамке? Ты вставай, браток.Ты прости за то, что разглядеть не смог.Ой, что скажу я мамке? Ты вставай, браток».Нюра не мешала ему и думала о своём. Хороший казак. Справный. Запястья широкие, ладони крепкие. Такой и обнять сможет так, что сердце захолонится, и хату срубить. Вот прислониться бы к нему, встать за его спиной. Дети бы пошли, а уж печь она бы растопила, пироги спекла. Сидела бы за столом и смотрела, как суетится и радуется малышня, как муж не торопясь макает ложку в бурачный борщ. Стопку выпьет и зваром запьёт. Тихо и покойно стало бы у неё на душе. Не зря, значит, на свет белый, народилась.
Молодая женщина несколько раз глубоко вздохнула, разогнала мысли Егорьевы. Искоса взглянул он на стоявшую рядом молодуху. Может быть, и вправду замкнулся круг и вернулся он туда, где всё когда-то начиналось? Тогда хватит печалиться. Тётке уже ничем не поможешь. Ей сейчас, может быть, лучше, чем нам здесь?
Хорошая девка. Статная, бёдра широкие, шея белая. Участливая и, видать, работящая. С такой можно век прожить. Надёжная, доброй помощницей будет. Может, хватит уже таёжного гнуса кормить? Пришла пора семьёй обзаводиться, и гнездо родимое так просто не бросишь. Оно ухода требует.
А когда на подушку белую лёг чёрный локон Анюты, понял Егор, что не оторваться ему от тела пышного, что место его здесь, на этой земле, по которой ходили его предки. Стирались, уплывали в прошлое тунгусские черты лица его приморской подруги. Заворожила его донская казачка своими чёрными глазами. Прочёл в них, что любить его ладушка будет до тех пор, пока блюсти он будет традиции, от пращуров унаследованные. Верит, что не отступится он в лихую годину, не дрогнет его сердце даже в смертный час.
Отписал Нечаев в свой леспромхоз, что нашёл он родное пристанище, и получил письмо ответное, приветливое, переслали и деньги за последний сезон, как положено. По совету Анюты сходил он и к главе хуторского совета.
– Ну что, Егор Иванович, – сказал ему атаман. – Рад, что казака перед собой вижу. Отца твоего помню, о деде твоём знаю. Память добрую храню. Ты гордись ими, не забывай. Любила тебя Дарья Алексеевна. Завещание написала. Документы на землю и хозяйство в порядок привела. Владей ими. Я так думаю, неча тебе по свету мотаться. Прибивайся к родному порогу. Обустраивайся. Фермерствовать начинай. Народ нам нужен. С фуражом, инструментом поможем. Правда, бывает, приезжают сюда городские, шалят. Если скрутна будет и сам с ними не управишься, приходи, не стесняйся, вместе что призадумаем. – И отвёл взор почему-то в сторону.
Совсем близко подошёл атаман к Нечаеву и, забрав его ладонь в свою бездонную ручищу, долго жал её и в глаза всматривался, будто разобрать хотел, что за человек перед ним стоит. Какой он? Настоящий ли?
Насмотревшись, атаман развернулся и, прихрамывая на правую ногу, вернулся к своему столу. Наклонившись, достал из-под него что-то длинное, похожее на палку, завёрнутую в простую холстину.
– А это, Егор Иванович, от тётки Дарьи тебе дорогой подарок. Сабля твоего прадеда. В бою он её добыл, у турецкого сипаха. Береги её пуще жалечки и внукам передай.
Ходко пошло дело у донского казака Егора Нечаева. Забор, где надо, поправил, падалицу со двора убрал, крышу на сарае перекрыл, косы и лопаты наточил, а главное – планы задумал. По весне надо овчарню соорудить, сыр, мясо, шерсть для людей делать; клети для кур и индеек новые поставить; стойло для ещё одной бурёнки расширить, да и буланого под седло приучить. Не помешает.
Нюра помогала ему во всём, а когда смотрела на любимого, глаза её светились от того, что впереди она видела новую жизнь, большую, солнечную, долгую, и чувствовала в себе её присутствие. И тогда тёплая волна скорого счастья накрывала её всю, прокатываясь от располневших грудей к самому низу живота. Недолго уже. Должно быть, на Пасху!
Даже Черкес перешёл к ним жить. За Нюрой потянулся. Перебежал от соседей, а те и не возражали. Пусть два дома сторожит. Лохматый кавказец уже не казался Егору таким свирепым, как по первоначалу. Бегал за ним как щенок, кормился с рук, а всё больше сопровождал его, когда Нечаев уходил к протоке или по какой-либо надобности в дальний лес. Тогда пёс шёл за ним след в след, как молодой волк-подъярок идёт за своим вожаком. Зимой у Черкеса выявилось ещё одно пристрастие: длинными ночами он предпочитал находиться не в своей дощатой будке, а выбирался наружу и устраивал логово в большой куче снега, которую Егор нагрёб, расчищая проход к дому. Тепло и удобно было ему в этой норе, но когда донимавшие его сны становились особо тревожными, то он выбирался из своего логова и, не стряхнув со шкуры снег, вскидывал огромную голову к звёздному небу и принимался выводить заунывную песню. Егор мог поклясться, что эту песню слышат и откликаются на неё даже серые собратья Черкеса из лесного урочища, что километрах в пяти от хутора.
Нюра пугалась и зажимала руками уши, тихо приговаривая, что этот вой её доведёт, а Егор успокаивал, объясняя, что Черкес чувствует близкую вьюгу. Однако в особо холодные дни он запускал пса в тёплую хату, чтобы тот отогрелся и слизал с лап обвисшие сосульки. Тогда все чувствовали себя вместе, единой семьёй. Топилась жаркая печка, Нюра сидела на диване и вязала из клубков разноцветной шерсти какие-то маленькие вещи, а Черкес подползал к хозяину, клал ему на колени кудлатую морду и неотрывно смотрел на него своими чёрными глазами.
«Странно, – думал Черкес, – ещё недавно я не знал этого человека, где он жил и откуда приехал, а теперь у меня нет никого дороже него». В порыве любви кавказец размыкал свои грозные клыки и принимался лизать руки своего друга, звериным нутром чуя, что в том есть что-то от него самого, скрытое, таёжное.
Старинный, драгоценный подарок достался Нечаеву от тётки Дарьи. Взял в жаркой схватке саблю его прадед Георгий, поразив пикой не простого сипаха, а самого черибаша, командира турецкой конницы. Диковинная сабля оказалась в руках Нечаева, скорее не оружие, а произведение искусства, словно созданное для того, чтобы находиться в музее за стеклянной витриной, а не чтобы свистеть в воздухе и полосовать слабое человеческое тело.
– Хороший килич у тебя будет, Георгий, – сказали казаки своему сотенному командиру, глядя с одобрением, как тот заботливо стирает с клинка запёкшуюся кровь.
И то правда – длинное изогнутое лезвие с рукояткой из слоновой кости, прикрытой крестовиной с картушем и рисунком из лепестков-рун и с витиеватой арабской надписью. Если бы нашёлся человек знающий, то он перевёл бы Егору эти вещие слова: «Сделал Касым-египтянин, раб Всевышнего Бога. Будет крепка защита твоя во брани». Хороши были и ножны, украшенные по всему прибору глубокой гравировкой с выпуклыми поясками, покрытыми позолотой. Древнее мамлюкское оружие стало семейной реликвией казачьего рода.
Ничего подобного никогда не видел Нечаев. Опять, как тогда на кладбище, закрутились в его голове неясные образы, будто выплывали перед глазами сцены жизни из прошлых времён. Славно послужила сабля его предкам. Многих врагов отечества успокоила она на подступах к родному краю. Часто Егор вынимал её из шкафа и часами рассматривал, любуясь хищной мощью дедовского оружия. Бережно фланелевой тряпкой протирал его клювообразное лезвие; нежно, как к женской груди, прикасался к его рукояти, поглаживал пальцами навершие в форме головы грифона.
Крепче прежнего хранил в душе родовой девиз: «Честь, совесть, бесстрашие и вера отцовская, православная». Другая, не арабская, вязь на стальном клинке виделась ему в неровном свете напольного ночника: «Гнись, да не ломайся. Ты казак донской. Ты род избранный, народ святой, Богом любимый».
Покатились дни быстролётные, всё ближе весна долгожданная. Ждал её Егор как любушку, всё на баз выходил в расстёгнутом полушубке, смотрел на небо сизое, воздух носом и грудью щупал. Может, летят уже от моря Азовского ветры тёплые с доброй весточкой?
«Вот бы послушать трели майские соловьиные. Ничего нет лучше на земле, чем певуны наши донские, острокрылые, разве что кони буланые да шашка кавказская, острая. Что слышал я в лесном краю? Только гагару потешную, чернозобую?»
Дождался Егор своей весны. В погребе картошка с чесноком нарядились в стрельчатые молочно-зелёные короны. Зашумела протока ледяными осколками, выбросились к солнцу дерзкие первоцветы, укрылась степь в апреле, к маю тюльпанами и травами, враз вспыхнула огневыми маковыми кострами. Никогда не видал Егор такой красоты. Не мог поверить, что он воочию видит эту необузданную фантазию природы. Может ковыль серебристый руками потрогать, может вдохнуть в себя пряный аромат донских просторов, а захочет – нарвёт букет полевой для своей любимой. Всё чаще выводил он жену свою венчанную полюбоваться вишнёвым листопадом, чтобы могла она послушать, о чём разговаривают деревья в их саду, и непременно чтобы попробовала зубами веточку яблоневую и ощутила, как вливаются в неё соки вешние. Хотел как-то помочь ей, оторвать от тревожных дум. Отяжелела Нюра, пугливой стала, о сроках всё больше заговаривала.
Черкес совсем ошалел. На дворе его было не застать. Днями и ночами справлял собачьи свадьбы свои с хуторскими невестами. Было бы по-другому, не закружил бы весенний хмель его голову клыкастую, может, и не приключилось бы событие горькое.
В тот день Нечаев встал пораньше, решив, что сегодня он непременно должен переделать очень много дел. Углядел, что с угла дома кровля расползлась. Подправить надо. Телегу в резиновые калоши обуть. Зерно для куриного стада на хуторе перехватить. Да мало ли чего. Не удивился и тому, что ближе к вечеру без спросу, без разрешения двое парней во двор зашли. Такое бывает – грех отказать в помощи проезжему.
– Здорово, мужик, – сказал тот, который повыше. – Ты, мы видим, уже хлопочешь. Времени даром не теряешь.
– Здорово. Я не мужик, – ответил Егор, подходя к незнакомцам. Многое в их облике показалось ему искусственным, вычурным: вызывающая хамоватость, рыщущий взгляд, цепко выхватывающий, что и как у него устроено на базу.
– Не мужик, а кто ты? Девка? Вроде не похож. Юбку в хате, что ли, снял? – хохотнул другой, кряжистый, с вдавленной в плечи головой с рыжими волосами.
– Я казак, – сдержавшись, произнёс Нечаев. Гости окончательно разонравились ему. Не так просто приехали, с замыслом. Дорогу выстилают, чтобы волю сломать, потому и ёрничают. Оскорбить пытаются. А может, юмор у них такой? Кто их знает, залётных?
– Казак, конечно, казак, – широко, почти по-приятельски улыбнулся длинный. – Мы многое знаем о тебе. Что приехал к нам с Дальнего Востока, например. Что хозяйство наладить собираешься. Ведь так? Так это хорошо. А на Ероху не обижайся. – Говоривший мотнул головой в сторону своего напарника. – Он и лишнего чего брякнуть может, а так он у нас сама доброта. Что скажешь, Егор?
– А что я должен сказать? – нахмурился Егор. – Мои дела – это мои дела. Скажите, за какой надобностью зашли ко мне на двор, а то времени у меня нет, чтобы с вами талалаять. Вот скоро юра поднимется, а мне ещё навоз сгуртовать надо.
Теперь он знал, что перед ним люди чужие, нехорошие, что говорить с ними нечего, а враз со двора выпроводить. Повидал он таких по таёжным стойбищам и знал, как с таким людом управляться.
– Ну, с навозом своим это ты сам разбирайся, – выступил вперёд крепыш, решительно отодвинув в сторону своего рослого товарища. – Ты сюда приехал деньгу зарабатывать, фермером стал, а раз так, то делиться с нами будешь. Уразумел?
– Это с какой же радости я вам платить буду? Я, значит, на земле своей вкалывай, а вы обдирать меня будете?
Нечаев почувствовал, как волна ярости начала туманить ему голову, пудовые кулаки отяжелели. Он даже шагнул вперёд, чтобы сподручнее было достать эту ухмыляющуюся рожу, но сдержался. Эх, если бы не семья, и не беспомощная Нюра. Не с руки эта перебранка. Нельзя тревожить её.
– Да ты не горячись, Егор. – Длинный опять высунулся из-за спины своего приятеля. – Мы же к тебе по-хорошему, значит, и ты должен с нами по-хорошему. Считай, мы с тобой земляки. Значит, уважение друг к другу иметь должны. Мы не сейчас просим, но к концу месяца подготовь тысяч десять. Это так, для начала. Если что, у соседей займи. Они понятливые, сразу откликнутся. Нам никто в станице не отказывает. Зато жить будешь спокойно. Никто не обидит, а если что, мы завсегда прикроем. Ну что, лады?
– Пустой разговор, – отрезал Егор, – не за что вам платить. Не платил и платить не буду. Вот и весь сказ. А теперь пошли вон со двора.
– А ты грубый, дядя, – деланно удивился длинный. Его вытянутое, как вопросительный знак, лицо разбежалось в морщинистой улыбке. – Сделай так, чтобы мы не запомнили твои слова. А за выходку твою грязную теперь тебе придётся платить уже не десять тысяч, а пятнадцать. И запомни, нам ты теперь уже не нравишься. Смекаешь? – Не впервой было удалым молодцам обламывать несогласных. По первоначалу сопротивлялись многие, но услышав слова доходчивые, соглашались все.
– А чтобы ты до конца всё понял, мужик, – увалень повелительно выставил левую ногу вперёд, – то скажу только раз. Если против нас чирикать будешь, то бабой твоей брюхатой займёмся и красного петуха во двор подпустим, а потом посмотрим, как ты руками пепел будешь разгребать и мордой…
Последняя фраза далась малому нелегко. Не успел он её договорить по той единственной причине, что его сознание в мгновение отключилось. Как надо лёг в голову литой казацкий кулак, сдвинув переносицу и расплющив лицевые хрящи. Там, где были озорные, на выкате глаза с короткими рыжими ресницами, теперь белели закатившиеся под черепную коробку шары.
У его сухопарого подельника от неожиданного и скорого развития событий отвисла челюсть. Он лишь молча стоял над недвижным телом, переводя взгляд то на своего распластавшегося на земле товарища, то на спокойно стоявшего со скрещёнными руками Егора Нечаева. Потом, что-то сообразив, парень сноровисто подхватил ноги зарвавшегося рэкетира в кожаных высоких ботинках и шустро поволок его к открытой настежь калитке, туда, где на косогоре стояла их машина. Голова и вытянувшиеся руки рыжего безвольно болтались из стороны в сторону, собирая придорожную пыль.
– Кто это там был? – спросила Нюра, когда Егор вернулся в хату.
– Да никто, – отмахнулся Егор, – случайные люди. Дорогу разыскивали.
В этот вечер Егор предложил Нюре пораньше лечь спать, сославшись на то, что сегодня было много работы и он устал. Не было в его сердце тревоги, никакими мыслями он себя не донимал, просто решил, что было бы очень хорошо, если бы жена пораньше уснула и он смог бы сделать то, что при данных обстоятельствах он считал необходимым сделать. В чём он теперь был полностью уверен, это в том, что недавняя встреча была неслучайной, что его давно выцеливали, присматривались и потому непременно вернутся. И что отныне нет другого пути, как всё решить разом. Долго лежал Егор с открытыми глазами, сдерживая дыхание, пока не уверился, что Нюра заснула глубоко и надолго. Тогда он осторожно поднялся с кровати, натянул на ноги шерстяные карпетки и, прихватив с собой сермяжный бострог, направился в другую комнату, стараясь не скрипеть половицами, и осторожно прикрыв за собой дверь. Бережно трогал Егор шлифовальным камнем ещё дедовскую заточку. Видел, что она до сих пор хороша. Внимательно всматривался в световые блики, пробегавшие по лезвию при каждом его повороте, подчиняясь магии стали. Далеко за полночь скрипнула дверь, и в его комнату вошла Нюра. Ничего не сказала она, увидев, чем он занимается. Ни упрекнула и не посоветовала, а только подошла к нему и, наклонившись, поцеловала мужа в макушку. Дрогнуло сердце казака, когда он ощутил молчаливую ласку подруги, понял, что она одобряет его решение и во всём поддерживает. Прижался на мгновение к её ногам и толстому животу, в котором роилась новая жизнь, продолжение нечаевского рода. Помолился Божьей матери и поклонился иконе древней, темноликой. А когда заря занялась, накинул на себя Егор овчинный полушубок и вышел на улицу. Решил подождать визитёров за калиткой – не хотел, чтобы всё приключилось на родном базу, чтобы жена увидела сцену непотребную. С сожалением лишь посмотрел на пустую собачью будку. Не было в ней Черкеса, не нагулялся, поди, кобель, не всем своим соперникам в клочья морды изорвал. А был бы сейчас кстати, помог бы в деле праведном.
Не прошло и часа, как запели вдалеке моторы. Торопились гости к заутрене. Хотели быстрее утолить жажду мести и наказать строптивого мужлана. Не знали они ещё случая, чтобы кто-то устоял перед их напором. Уступи одному – и другие потянутся. Тогда управы ни на кого не найдёшь. Как тогда волков удержишь, что собрались под их началом ради лёгкой добычи. А тут какой-то выскочка, приезжий, свои права заявляет. Стереть в порошок негодного, чтобы другим неповадно было.
Всё ближе чёрные точки с яркими фарами. Минут через пять будут. Пора рушник с привечальным хлебом в руки брать – дорогих гостей встречать. Развернул Нечаев холстину, аккуратно сложил и положил под куст. Взял саблю в левую руку и потянул из ножен, проверяя, как легко выходит она из своего ложа, а потом встал за раскидистый вяз, что издавна у калитки рос. Нет другой тропы к дому, если, конечно, не обкладывать его со всех сторон. Этим путём пойдут, никуда не денутся.
– Господи, благослови. Укрепи сердце и руки мои.
Дружно захлопали автомобильные дверцы. Одним за другим стали вылезать бравые молодчики. Второй… четвёртый… А где же тот рыжий, что на гриб похож, с разбитым носом и губами-лепёшками? Да вот он, здесь, родимый, за багажником схоронился. Значит, всего пятеро. Солидная делегация, разновозрастная. Кому под тридцать, а кому и за сорок. Те, конечно, посерьёзней, пообстоятельнее. Собрались в круг. Обсудить надо, но и не только. Двое вынули из-за пазухи что-то воронёное, с длинными стволами. Ага, с гостинцами приехали. Наговорились, условились и развернулись в линию, чтобы след в след, затылок в затылок потянуться волчьей трусцой к хате неприятеля.
– Вы, случаем, не меня ищите? – Егор резко вышел из-за дерева. Оторопели сокамерники, про «пушки» свои забыли. Вот она великая секунда замешательства. Мгновение, дающее шанс смелому перед оравой многочисленной.
Заплескалась зеркальная сталь алыми отсветами. Опешили налётчики, стали в кучу сбиваться. А Нечаеву только этого и надо. Корпус вправо-влево, качнуться назад, присесть на ноги и волчком провернуться, подсекая противников. Чуть слышно зачмокали «поцелуи» древнего мамлюкского оружия, прикладываясь то к шее, то к горлу, то к рёбрам растерявшихся охотников до чужого добра. Защёлкали ответные выстрелы, да, видно, поздно. Четверо повалились ржаными колосьями под серпом жнеца: кто просто так, с разрубленной грудью или безручный, а кто и без кости затылочной. Вроде и не ведал он боя сабельного, но пришла в лихую годину сама по себе сноровка не выученная, а унаследованная от рода казачьего, дедовского. Лишь пятый, тот, рыжий, меченый, в бегство ударился, вихляя толстой задницей.
Прилёг и Егор Нечаев на зелену траву, к дому ближнюю. Достали его свинцовые пули. Прокусили лёгкое и горло выбили. Смотрел казак в небо синее стекленеющими глазами и видел, что нет в нём ни печали, ни сожаления, а есть только облако первое, рассветное, что ему улыбается. Хотел в последний раз выдохнуть, да задержал дыхание. Углядел, как из-за косогора метнулся бурый шар и, пластаясь в прыжке, достал того, последнего, особливо наглого, что давеча ни за что обидел жену милую. Припозднился Черкес, запраздновался, всё окучивал подругу лохматую. Сердцем почуял, что приключилась кручина великая. Бросился безоглядно на помощь – на выручку. Вдвоём же легче отбить приступ вражеский.
Сбил с ног грозный кавказец лиходея рыжего. Припёр к земле могучими лапами и сомкнул на шее гигантские клыки. Плёвое дело для громадного пса, предводителя всех станичных собак, сломать хрупкие позвонки человека. Оставив свою жертву бездыханной, вернулся Черкес к своему хозяину и принялся лизать холодеющие щёки, а потом вскинул кверху лобастую голову, распахнул чудовищную пасть и завыл так, что, наверное, встрепенулись все серые лесные разбойники от Маныча до Хопра. Он выл, не глядя на бегущих со всех сторон людей. Какое ему дело до них, коль он не уберёг того, кого сам вызвался защищать тогда, полгода назад? Он выл, не обращая внимания на слёзы и причитания простоволосой женщины, которая стояла на коленях над трупом любимого и выламывала себе руки. Что тут скажешь, он и перед ней виноват.
Хорошо сложил буйну голову казак. С саблей в руке, на Донской земле. Правда, не в походе турецком и не на дальней Неметчине, а за дело верное, справедливое, отчий дом и семью свою защищая, землю родимую, руками предков ухоженную. Ну так что ж? Кто сказал, какой враг страшнее: внешний или внутренний? А за тихий Дон умереть – честь великая.
Март 2018 годаПадшие ангелы
Бомж с Триумфальной площади, когда-то откликавшийся на имя Степан, в кругах посвящённых был более известен под кличкой Колбасная Шкура. Это был знаменитый бомж не только потому, что определил своим основным местом обитания центральный округ российской столицы, а больше в силу того, что регулярно отправлялся в вояжи по всем направлениям туристической Мекки среднерусской возвышенности, которую соответствующие справочники по привычке называют Золотым кольцом. Колбасной Шкуре нравилось ездить в эти места. Во-первых, удобно. Как-никак подмосковные электрички во все времена предоставляли своим пассажирам лёгкий налёт транспортного комфорта. Провести тройку часов в заплёванном тамбуре вагона было для Степана занятием необременительным и, по сути, делом пустяшным.
Редкие патрули железнодорожного контроля Шкуру не трогали, справедливо считая, что выйдет себе дороже. Представители женского пола явно остерегались того, что к ним за воротник перепрыгнет какая-нибудь ретивая блоха из Степановых лохмотьев. Что же касается их неумолимых спутников с железными бляхами на груди и резиновыми дубинками в руках, то они тоже не испытывали особого энтузиазма в отношении того, чтобы заняться восстановлением порядка и выпроводить вон из вагона нарушителя их строгих правил.
Обычно взаимное общение начиналось с грозных взглядов и обещания всяческих кар, а заканчивалось зажатыми носами и суматошной толкотнёй в дверном проёме, вызванной острым желанием побыстрее покинуть место событий. Поэтому к пункту назначения Шкура приезжал бодрым и подтянутым, с затаённым восторгом предвкушая неизгладимое впечатление, какое он произведёт на многочисленных туристов из всех земных краёв, приехавших, чтобы насладиться шедеврами древнерусской архитектуры и иконописи.
А тут и он, уникальный и неповторимый Стёпка, Колбасная Шкура, во всей своей бродяжной красе, излучающий миазмы давно не стиранных подштанников. По части ядрёной духовитости ему не было равных.
Кострома, Суздаль и Тверь были полем его «творческой» деятельности, так же как и выходы из московского метро в пределах Садового кольца.
Во-вторых, Степан знал все приёмы, посредством которых с наибольшей эффективностью можно воздействовать на слух, зрительный нерв, а главным образом, на рецепторы обоняния владельцев и обслуживающего персонала миниатюрных кафе и ресторанов, разбросанных вдоль и вокруг достопримечательных мест этих лубочных городков. Для этого достаточно было как бы случайно расположиться где-нибудь неподалёку от входа в эти заведения общепита, как через пять минут максимум из кафе выбегал владелец или его служащий, чтобы начать несложные переговоры. Как правило, Шкура был милостив и позволял уговорить себя за шматок колбасы, буханку хлеба и пару огурцов. После чего величественно удалялся в одном только ему известном направлении.

