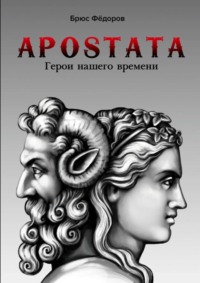
APOSTATA. Герои нашего времени
Забавнее всего было, конечно, на площадях и вообще везде, где наблюдалось скопление народа. Стоило заезжим гостям увидеть колоритную фигуру Колбасной Шкуры, как их восхищение золотыми куполами и яшмовой мозаикой мгновенно улетучивалось, равно как и нагулянный за время экскурсии аппетит.
Любил он также ненароком вторгнуться в пугливую группку приезжих со снаряженными фотокамерами, разинутыми ртами и раздвинутыми глазами, с тем чтобы насладиться произведённым психологическим эффектом. При его появлении, услышав намерено надсадное рыганье, чиханье и сморканье, в рядах туристического племени мгновенно возникали неуправляемые водовороты, и дотоле стройные шеренги ценителей всего прекрасного теряли всяческий интерес к предмету недавнего восхищения, а также былую сплочённость и позорно бежали от подобравшегося к ним представителя вездесущей нищенствующей братии.
Ради забавы можно было иногда, под хорошее настроение, выследить в укромном месте городского парка, например у фонтана или на тенистой аллее, влюблённую пару, которая так трогательно прижималась друг к другу и неторопливо прогуливалась по гравийным дорожкам. Тогда Шкура, подкравшись из-за спины, обгонял ничего не подозревающих влюблённых, втягивая их в шлейф совершенно удивительных запахов, подобранных им на ближайшей мусорной свалке. Не оглядываясь, по одним только удалявшимся торопливым шагам он уже знал, что его преследователи повержены и с душещипательного разговора на романтические темы моментально перешли на обсуждение язв современного общества.
Однако больше всего Степан любил размышления на философские темы в те минуты, когда оставался один, примостившись на случайной уличной лавочке. Это случалось всегда в те сладостные моменты, когда в его руках оказывалась бутылка недопитого кем-то кагора или спиртовая настойка из местной аптеки. Для того чтобы раздобыть столь изысканные напитки, большого труда ему прилагать не надо было. У монастырей и церквей всегда роилось немало добросердечных старушек и моложавых прихожанок, готовых подкинуть «божьему человеку» несколько рублей на пропитание.
И всё же то, что допускалось в провинции, явно не проходило в уличных джунглях столичного мегаполиса. Поэтому, безусловно, можно было бы остаться и там, где течёт река Волга и с городских окраин открываются бесконечные берёзовые рощи и клеверные луга, если бы не одно огорчительное обстоятельство. Так же как любил делать и он, незаметно подкрадываясь к прохожим, так же неожиданно и неизбежно каждый год подступала промозглая осень, а за ней и зимняя стужа. В парках и на соборных площадях провинциальных городков становилось грустно и неуютно. Безошибочный инстинкт начинал всё настойчивей напоминать Степану, что пора возвращаться в бесконечные лабиринты подземной Москвы. Главным образом потому, что там было тепло и места хватало всем.
Степан реально любил колбасу – в любом виде и под любым названием: с жирком и без, с настоящим мясом или с картофельным крахмалом и целлюлозой вместо него. Она могла называться по-разному: докторской и любительской, чесночной и ливерной, копчёной и полукопчёной, – эксклюзив и верх мечтаний. Для её добычи Шкура использовал целый арсенал изощрённых приёмов. Мог изловчиться и выдернуть колбасный батон из коробки при разгрузке продуктового фургона или самым наглым образом выпросить у жалостливой продавщицы мясные обрезки. В крайнем случае мог перелопатить целый мусорный контейнер где-нибудь на заднем дворе престижного ресторана, в который поварская прислуга выбрасывала перегнившие съестные припасы и ни для чего другого не пригодные объедки со столов.
Из-за своего неистребимого чревоугодия Степана должны были бы прозвать, скажем, Ливером или Чесноком, но он почему-то удостоился лишь неблагозвучного имени Колбасная Шкура. Почему «колбасная»? Ну, это понятно и уже объяснено, а вот как быть со «шкурой»? Пожалуй, под этим словом скрывался целый аспект определённых социальных отношений, в основе которых, несомненно, лежало устойчивое нежелание Шкуры делиться с кем-либо из своего сословия дневной добычей.
Этот день складывался для Степана как нельзя лучше. С утра пораньше он облюбовал себе скамейку неподалёку от выхода из метро «Маяковская», что у концертного зала им. П. И. Чайковского. Откинувшись на деревянную спинку и вытянув ноги, обутые то ли в валенки с безразмерными калошами, то ли в обмотки неандертальского дикаря, он предавался сумеречной дремоте. Его не беспокоил робкий, незадавшийся морозец, от которого он был надёжно укрыт многослойными шкурами из старого пальто, свитера и ватных штанов. На голове громоздилась меховая собачья шапка с оторванными ушами. Распухший сизый нос сполз вниз и теперь надёжно прикрывал верхнюю губу, согревая её своим дыханием.
На дворе стояло 31 декабря.
Степан давно не придавал значения датам и дням календаря, считая, что всемирная хронология когда-то очень ошиблась, назначив первое число. Нет, конечно, во времена стародавние он придерживался понятия рабочей недели, ежедневно вбивая гвозди в доски, но вскоре нашёл это занятие утомительным и пришёл к выводу, что оно не отвечает его внутренним принципам. Приоткрывая периодически сонные веки, Шкура безразлично наблюдал за суетящимися муравьями-трудоголиками, вереницей вытянувшимися от входа в метро через всю площадь вплоть до своих офисов и учреждений, где их ждали чай, сигареты и бесчисленные кофе-брейки, которые должны были скрасить их без того унылую и безрадостную жизнь. Принятый в качестве завтрака стакан бормотухи настраивал его на глубокие обобщения:
«Убогие люди, что они нашли в такой жизни? – лениво размышлял Степан. – Всюду у них вечные проблемы и передряги. Всегда чем-то озабоченные и зависимые от ими же созданных условий. Кто из них скажет: я хочу и могу? Никто. А я могу так сказать. И сделать, потому что я свободен. Я никого не должен обслуживать, а вот они должны, даже таких, как я. Потому что у них, видите ли, есть общество, которое они сами и придумали. Гробятся всю жизнь ради квартиры и денег, а потом бац – и нет ни квартиры, ни денег. А у меня дом везде. Где я прилёг, там и дом мой. Жалкие они. Бросают мне свои монеты и смятые бумажки. Нос воротят. А чем они лучше? Подержать бы любого из них этак с месячишко в одних и тех же портках, посмотрел бы я, чем они запахли бы. А впрочем, пусть побегают, а я посплю. От них польза тоже имеется – вот колбасу, например, делают».
Шкура поплотней запахнул своё драное пальто и надвинул на брови обгрызенную шапку. До вечера было ещё далеко. На вечер был назначен общий сбор по поводу кануна Нового года. Тащиться в подвал, что в одном из домов по Воротниковскому переулку, особой охоты не было, если бы не указание свыше. Иерархия существует везде. От неё даже заслуженному бомжу не отвертеться – себе дороже выйдет.
«Новый год не Новый год – мне-то что? Если уж для души праздник нужен, то лучше разыскать Ромашку с Савёловского. С ней и бухнуть, и трахнуться можно. Вот тебе и праздник, а то удумали – компанию созывать».
С этого момента Степан крепко и надолго заснул. Из кармана его ватных брюк вызывающе торчал толстый оковалок ветчинной колбасы, перетянутый просмолёнными верёвками, как символ бродяжной вольницы и достатка.
***Спала и Ромашка. Спала на привычном для неё ложе – на полу длинного и замызганного подземного перехода, который ведёт из метро «Савёловская» к пресловутому Савёловскому рынку. Из её полуоткрытого рта вырывался звук, весьма напоминающий сдавленный стон, который равным образом можно было бы назвать также вибрирующим полухрипом, производимым прилипшей к нёбу пластиной из спёкшейся слизи. Она лежала, прижавшись к холодной кафельной стене, на расплющенной картонной коробке, подтянув к подбородку ноги. Вытертая мутоновая, с проплешинами шуба надёжно защищала её тело от настильного холодного сквозняка, врывавшегося в полутёмный туннель через открытые лестничные проёмы, ведущие к железнодорожным платформам. Когда-то, в лучшие времена, эта шуба составляла важную часть жизни, была её гордостью. Нет, эту шубу не купил Ромашке щедрый муж, которого никогда не было. Она сама заработала на неё деньги чем смогла, долго откладывала и долгие годы мечтала о ней.
Ромашка лежала, прикрыв голову высоким воротником. Выбеленные перекисью водорода до коренных луковиц волосы давно уже стали безнадёжно седыми, смешались с грязью и сейчас серо-пепельными прядями закрывали ей лоб и часть лица. На поверхности шёл снег, смешивающийся с ледяной изморозью. Подошвы прохожих подхватывали его и переносили в подземный переход, отчего в неровностях напольного покрытия образовывались лужи и лужицы, заполненные холодной водой. Ноги торопившихся по своим делам людей топали по этим водостоям и поднимали грязевые фонтаны, брызги от которых попадали на щёки и волосы спящей бродяжки. Женщина морщилась и поджимала губы, но век не размыкала и не пыталась отвернуться. Лишь её ресницы вздрагивали. Если бы кто из пешеходов остановился и поинтересовался бы её возрастом, она не знала бы, что ему ответить. Она давно забыла свой день рождения и сомневалась в наличии у неё фамилии.
Ромашка не была ординарной бродяжкой, занимающейся уличным попрошайничеством. Шло время, и она освоила тонкое искусство активной «подставы». Не каждый день, но когда её просили «уважаемые» люди, Ромашка наряжалась в свои самые экзотические лохмотья с невыводимым запахом застарелой мочи и испражнений, чёрным гуталином наносила на лицо боевой раскрас и, укрывшись фетровой шляпой с широкими, в дырках полями, выходила выполнять задание. Она была особенно незаменима в тех случаях, когда надо было отогнать покупателей от палатки конкурента или внести сумятицу в возмущённую толпу обманутых дольщиков.
Когда-то она откликалась на имя Настя, а прозвище Ромашка у неё появилось позже, когда однажды по доверчивости призналась одному из своих выпивох-ухажёров в том, что в девичестве больше всего любила полевые ромашки, собирала их, сплетала в жёлто-белый венок и украшала им свою голову.
Она не обращала внимания на колючие капли талого снега, попадавшие на её лицо, потому что в своём хмельном забытье она надеялась удержать при себе самое прекрасное виденье, которое сокровенно берегла и втайне надеялась, что Божья матерь будет настолько милостива к ней, что подарит чудесный сон ещё раз, и ещё. А если чудо случится, то она вновь превратится в маленькую девочку Настеньку, и светлая женщина, любящая её мать, будет долго расчёсывать ей тёмно-русые волосы, заплетать длинные косы и рассказывать волшебные сказки и диковинные притчи, уверяя, что она, когда подрастёт, а случится это очень скоро, обязательно превратится в лесную нимфу или Белоснежку. А потом встретится ей красивый юноша-принц и полюбит её, и будут они жить долго-долго и очень счастливо, и родятся у них три маленьких розовощёких ангелочка: две девочки и один мальчик.
Закончив очередную сказку и завязав в косы большие алые банты, мать долго смотрела на свою счастливую дочку, гладила её по головке и целовала серо-зелёные глаза в ожерелье длинных и пушистых ресниц.
Маленькое сердечко Настеньки сладостно замирало, и она верила, что всё так и случится, потому что ей сказала об этом её дорогая мамочка, а мамы, как известно, никогда не врут. Бойко стучали её беленькие сандалики на загорелых ножках, когда она резво сбегала вниз по деревянной лестнице длинного барака, в котором жили её родители. Ей было так хорошо и радостно, что она хотела поделиться ожидающим её счастьем со всем белым светом, с летним солнышком, которое поджидало её на небе каждый день, и с зелёным, в васильках и ромашках полем, которое начиналось как раз за их домом.
А потом, когда закончилось лето и прошла зима, к ним в комнату вошёл хмурый дядя в замасленной рабочей спецовке и, сминая в руке кепку, сказал, что их Петруха, то есть её отец, погиб от электрического разряда, когда ремонтировал разомкнувшуюся сеть. Мол, нашёлся один болван, который включил рубильник тогда, когда работы на линии ещё не были завершены.
Этой части своего сна Ромашка всегда боялась, и провидение чаще всего щадило её, но иногда из тайного убежища её памяти выплывали жуткие картины, как постепенно начала пить её прежде ласковая и заботливая мать. Мать пила, а окружающие люди её поддерживали, и она всё чаще стала забывать, что вместе с ней живёт ещё одно, маленькое и трогательное существо, её дочка Настенька, которой никто больше не заплетал косички. Так прошли годы, а потом наступил вечер, а за ним и ночь, когда к ним в гости пришли три здоровых громкоголосых мужика, которые много пили и дымили папиросами. Мать вначале смеялась и хохотала, пила мутную водку и бурое вино, а потом враз затихла и повалилась ничком на кровать. А следом произошло то, что Настя никогда не видела и не смогла понять. Мужики закрутили подолом платья голову беспомощной женщине и, приспуская брюки, один за другим стали ложиться на её мать, которая никак не сопротивлялась, а только мотала головой из стороны в сторону и мычала что-то нечленораздельное.
Тогда Настя испугалась, и ей показалось, что эти чужие люди делают с её мамой что-то нехорошее и обижают её. Она стала кричать и махать маленькими кулачками. Но никто не услышал её и не пришёл к ней на помощь. Только один из них, самый здоровый, с небритой щетиной и скособоченной набок отвислой нижней губой, взял со стола очередную распечатанную бутылку с тухлой жидкостью, приложился к горлу и разом выпил водку до половины. Потом, взглянув исподлобья на притихшую девочку, сипло процедил сквозь обкуренные, широко раздвинутые зубы:
– А эта ничего, подойдёт. Подросла уже. Вполне.
Память пощадила её, но до конца своих дней Ромашка будет помнить эту долгую ночь, нависшие над ней расплывшиеся морды, тяжёлый запах перегара и бесконечную боль во всём теле. Сдвигались и раздвигались стены комнаты. Раскачивалась под потолком пыльная лампа: назад-вперёд, и ещё раз назад-вперёд, и ещё, ещё, ещё…
Но сейчас среди плевков и окурков Ромашке снилась самая добрая, ромашковая часть её жизни. Наверху заканчивался день, шёл снег, шуршали ботинками неугомонные люди. А потом кто-то наклонился к её уху и предупредил, что вечером придут за ней и заберут куда-то, но зачем, не сказал.
Не всё ли равно, в конце концов?!
***В этот день были дела и у Синяков, более известных в окрестном мире как «синюшная троица», – закадычных друзей, составлявших тем не менее эшелонированную социальную ячейку: Синяк-1, Синяк-2 и Синяк-3, в которой командные функции принадлежали, как ни странно, не Синяку-1, а Синяку-3, и не потому, что тот был самым старшим, а потому, что чаще других возвращался в состояние, которое можно было бы назвать «условно трезвым».
Определение «синие» пресловутая троица заслужила исключительно тем, что не только цвет лица, но и цвет рук, шеи и всего тела у них был голубовато-лиловый.
– Никто и никогда не выпил столько «бухалова», сколько мы, – к случаю и без него любили заявлять они и, горделиво вскинув головы, обводили взглядом победителей притихших «соплеменников».
Что верно, то верно, так как в словах Синяков о том, что они начали пить прямо со дня рождения, было много правды. У всех троих родители были хроническими алкоголиками, и потому первые же капли материнского молока быстро приучили их неокрепшие организмы к тому, что без содержания алкоголя в крови поддерживать жизненный цикл они уже не могут. Появились они на этот грешный свет в разных деревнях и посёлках необъятной страны, но встретились только в её сердце – гостеприимной и всеядной Москве.
Основным местом своего обитания в мегаполисе троица избрала подъездные пути, незакрытые ангары и незапертые двери списанных плацкартных вагонов. Тепло, уютно, надёжно, не хуже, а лучше, чем в нарытых людьми бетонных складских помещениях, подземных туннелях и прочих полутёмных закоулках, до которых рука цивилизации не могла, а вернее, не желала дотянуться. В лучших друзьях у «синюшной команды» состояла злющая и разношёрстная стая бродячих собак. Симбиоз зверя и человека проявлял себя во всей красе природной рациональности. Обострённый нюх одних безошибочно выводил на скрытые залежи гниющих продуктов питания, а угасающий разум других помогал лучше ориентироваться в мире машин и современных технологий. И потом, нет ничего комфортней, чем коротать студёные ночи, согреваясь теплом шкур лежащих под твоим боком собак.
Прозвище «трое Синяков с площади трёх вокзалов» звучало представительно и авторитетно, помогая открывать доступ даже в такие труднодоступные сферы, как «Черкизон», где можно было разжиться любым марафетом, и подворотни Большой Лубянки, где в одном из полуподвальных помещений Луговая Машка (почему «луговая» – никому не известно) варила замечательный «винт» из двух видов очистителей для канализации и каустической соды.
Железные желудки Синяков без протеста принимали в себя взрывной компонент, но с одним непременным условием: в него должны быть добавлены ложки две-три свежего медного купороса – чистейший продукт, на который не смели покушаться даже крысы с метростроевской линии «Москва-кольцевая». Добавлять и смешивать купорос со всем, что можно было глотать или втягивать через нос, было патентованным «брендом» трёхвокзальных друзей – их know-how, так сказать, которое они ревностно оберегали и не давали покушаться никому, отстаивая право первооткрывателей. Именно купоросная медь со временем придала их коже непередаваемый синюшный оттенок, вызывая удивление медиков из органов призрения и неподдельное восхищение ночлежных красавиц.
– Вот что, братаны, – поутру провозгласил Синяк-3. – Сегодня мы будем впервые представлены высокому сообществу. Так что должны соответствовать случаю. Берите руки в ноги, голуби, и в путь. На Павелецком нас подстригут, на Савёловском помоют, а накормят уже на Воротниковском, куда надлежит прибыть к восьми часам вечера. Всем понятно?
– Надлежит? Прибыть? – хмуро протянул из своего угла Синяк-2. – На кой хрен нам это надо?
Накануне была жестокая пьянка, а утром наступило не менее жестокое похмелье. Поэтому Синяк-2 просыпался медленно и последовательно. Вначале открыл один глаз, потом другой и в довершение столь сложного процесса руками неуверенно принялся ощупывать своё тело, чтобы наверняка убедиться в том, что все его части на месте.
– Это с какого же рожна нам куда-то тащиться надо? – поддержал его Синяк-1, который давно уже прикидывал, как через час-другой они осчастливят себя «процедурой» из растворённого в ацетоне эпоксидного клея, парами которого сподручно наслаждаться, засунув голову в полиэтиленовый пакет.
– Надо, значит, надо, синекрылые вы мои, – усмехнулся Третий, будучи в полной уверенности, что он владеет волей остальных собутыльников. – Заветное слово я получил. Птичка-синичка мне ночью на ухо прокукарекала.
***К восьми вечера подвал, что в Воротниковском переулке, был полон. Это был очень знаменитый подвал, один из многих в подземном хозяйстве исторической Москвы. Особенностью являлась его уникальная протяжённость. Поговаривали, что, если разобрать разделительные стенки, достроенные в более поздний период, через подвал можно выйти к линиям городского метро, а то и подобраться к внутренним помещениям Московского кремля. Хотя эти предположения, вероятнее всего, относились к разряду не подтверждённых никем легенд. Много что может привидеться ловкачам-диггерам и фантазёрам из археологических экспедиций.
За импровизированным общим столом, составленным из самых различных подручных предметов, как то: деревянные и металлические ящики, длинные доски, садовые скамейки и разбитые и выброшенные за ненадобностью на помойку гарнитурные стулья, – гудело шумное сообщество весьма колоритных персонажей. Можно сказать, что в плохо освещённом помещении собралась лучшая часть московской клошарной аристократии.
Здесь был и Колбасная Шкура, принарядившийся в весьма приличный, хотя и потрёпанный временем твидовый пиджак и такой же древний шерстяной свитер. Рядом с ним сидела Ромашка, волосы которой были аккуратно причёсаны, а губы даже подведены коричневой помадой. Настроение у неё было приподнятым, и вела она себя весьма оживлённо.
Напротив разместился однорукий Миша-машинист. Было время, когда он действительно водил тяжёлые грузовые составы, но однажды ему не повезло. Июльский зной на пару с алкоголем размягчили мозги и притупили внимательность в самый неподходящий момент, когда из-под колеса вагона вывернулся плохо закреплённый тормозной башмак. Безжалостная сталь стотонным грузом отхватила Мишке руку и заодно расплющила сцепщика, покатившись дальше по железнодорожной колее и сокрушая всё на своём пути. Теперь из прошлого у Мишки осталось только одно неискоренимое желание: ночью пробраться в депо, где шло формирование поездов метро, и залезть в передний вагон, поближе к кабине машиниста, с тем чтобы ездить в нём весь божий день. Строгие станционные смотрители делали вид, что не замечают забившегося в угол вагона бродягу – всё-таки как-никак коллега, чем доставляли Мишке искреннюю радость от осознания того, что он находится при любимом деле.
На предновогоднее мероприятие Миша-машинист пришёл в хорошем настроении и теперь сидел и вертел головой во все стороны – многих из числа присутствующих он не знал.
Ближе к центру «стола» разместилась сплочённая «профессорская группа», включавшая в себя выходцев из недр самых различных профессий. Был тут убелённый сединами преподаватель с институтской кафедры марксизма-ленинизма, в одночасье потерявший работу по причине «установленной ложности» его области знаний. Был колоритный учитель математики из средней школы с высоким лбом и седой гривой, любивший после первых пятисот грамм портвейна почитать на публику Есенина. Здание его школы под предлогом ветхости снесли и больше не восстанавливали, а вырыли котлован под будущую точечную застройку, который с годами до краёв заполнился водой. Был и преподаватель слесарного дела из некогда существовавшего профтехучилища, ликвидированного со всей системой профессионального образования, который вообще ничего не пил и потому вызывал всеобщее подозрение. Однако он предпочитал всегда и обо всём молчать и потому сумел заслужить себе некоторое снисхождение. Были даже такие, которые признавали в нём скрытого философа и провидца.
В прошлом уважаемые члены общества и главы своих семей, они быстро оказались в сточной канаве, не выдержав напора бессмысленных социальных катаклизмов. Всё их мужество и ответственность за судьбу родных и близких растаяло вместе с остатками уважения к ним как к людям, имеющим право на существование в новых политических реалиях. Потерянность и безденежье капля за каплей выплавили из них чувство собственного достоинства, успокоив совесть в алкоголическом дурмане. Теперь их глаза лихорадочно блестели в ожидании возможности приступить к любимому занятию, чтобы довести себя до нужной степени непотребства и заняться «интеллектуальными» дискуссиями и мордобоем.
Были тут и сидевшие рядком активистки из бесчисленной стаи «райских птичек», выловленных тенётами по всем ближним и дальним уголкам седьмой части суши и свезённых в Москву для участия в уличных инсценировках под общим названием «разведи ближнего». Убогие старушки, покинутые всеми калеки и неистовые «богомолки», давно утратившие собственную волю, предпочли доживать свой безрадостный век не в голоде и забвении, а в составе вымуштрованных «пятёрок» и «десяток», дружно налетавших на сердобольных прохожих у входов в метро, на шумных аллеях воскресных парков и в пределах монастырских оград.
Были тут и принарядившиеся Синяки с выбритыми физиономиями, замершие, как легкоатлеты перед командой «фас», то есть «старт», чтобы наброситься на стоявшее перед ними винно-водочное изобилие. Синяки бросали хитрые взгляды и подмигивали друг другу, давая понять, что каждый из них явился на торжественную ассамблею не просто так, а с «джентльменским» набором пакетиков с порошком из размолотых таблеток эфедрина, смешанных с любимым медным купоросом.
Был здесь и недоучившийся семинарист-расстрига, получивший гордое наименование Кадило, который на все духовные запросы своей бродяжной паствы глубокомысленно отвечал, налегая на басовые тембры голосовых связок: «Молите, и прощены будете» или «Ищите, и обрящете» – для разнообразия.
Не было здесь только мальчика, обитающего на «Куршевельском Монблане», что в химкинском левобережье, терпеливо ждущего приезда очередного мусоровоза. Каждый урчащий грузовик с огромным контейнером представлял собой сладостную загадку. Когда наступит долгожданный момент, с каким замиранием сердца кинется он на вываленную кучу мусора, с тем чтобы начать лихорадочно разгребать городское дерьмо в поисках сломанных, но таких красивых детских игрушек.
Не будет на новогодней церемонии и безногого бомжа, что раз от разу устраивает на Павелецкой площади импровизированный концерт. Бегут мимо озабоченные прохожие, а вслед им несутся скомканные звуки, которые весёлый барабанщик выбивает из картонных коробок короткими палками, не обращая внимания ни на снежный ветер, ни на безразличие людей. Только однажды неподалёку от него задержались двое приятелей, чтобы перекурить актуальную тему:

