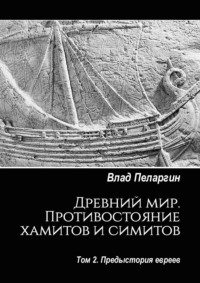
Древний мир. Противостояние хамитов и симитов. Том 2. Предыстория евреев
А есть еще минойские фрески с быками… И библейское сказание о «золотом тельце» – символе Сетха-Яхве.
Геродот утверждал, что всех своих богов греки заимствовали у египтян через пеласгов: «Вообще, почти все имена эллинских богов происходят из Египта… В прежние времена, как я узнал в Додоне, пеласги совершали жертвоприношения богам, вознося молитвы, но не призывали по именам отдельных богов… Только спустя долгое время они узнали из Египта имена всех прочих богов… Потом вопросили об этих временах оракул в Додоне (ведь это прорицалище считается древнейшим в Элладе, а в то же время было единственным). Так вот, когда пеласги вопросили оракул в Додоне, следует ли им принять имена богов от варваров, оракул дал утвердительный ответ. С этого-то времени пеласги стали при жертвоприношениях употреблять эти имена богов. А от пеласгов впоследствии их переняли эллины» [11.2; 11.3].
По-видимому, 8,0 тлн, когда финикийцы с союзниками покидали Левант, пантеоны их богов были сформированы далеко не полностью. Пополнялись они уже на месте. При этом вполне возможно, что с появлением 4.4 тлн египтян, а затем и шумеров, пеласги заимствовали у них имена некоторых богов, имеющих те же функции, что и безымянные боги пеласгов (список соответствий можно найти в [11.26]. Но, видимо, дело не столько в прямом заимствовании, сколько в способе формирования пантеонов богов у шумеров, египтян и финикийцев, перешедший от них к грекам. Вот что говорит об этом Филон Библский в своих комментариях к «Финикийской истории» Санхунйатона (финикийский историк, предположительно живший в XIII в. до н.э.) [11.27]:
«Финикийцы и египтяне, от которых заимствовали и прочие люди, считали величайшими богами тех, которые изобрели что-либо необходимое для жизни или как-нибудь облагодетельствовали народы; этим благодетелям, считая их виновниками многих благ, финикийцы поклонялись, как богам, а после их смерти устроили храмы, освятили по их именам стелы и жезлы, очень их почитая, и установили весьма большие празднества в их честь… из явлений же природы они считали богами только солнце, луну и прочие планеты, а также стихии и прочее, с ними связанное…»
Что ж, здравый взгляд. Мы считаем, что методам религиозного строительства ноитов научили сифиты в Тибете и Камбее (см. гл. 3). Сходные принципы и технологии порождают сходные результаты; вот почему в религиях шумеров, египтян, финикийцев и греков много общего. Но, конечно, есть и отличия, связанные с самосознанием, психологией, ментальностью народа. Например, отношения шумеров и, особенно, финикийцев с богами не носят характер таинства, не проникнуты той глубокой сакральностью, которая свойственна египтянам.
Заметим, что греческие боги похожи на богов шумеров (если бы Геродот знал про шумеров, то признал бы это). Они сугубо антропоморфны, тесно общаются с людьми, ведут себя, как люди. Любят женщин и от этой любви рождаются полубоги и герои. Очень напоминают суперменов из голливудских блокбастеров. Отношения между богами и людьми в целом достаточно формальны и похожи на отношения хозяина, который может и «уволить», и его работника (как у шумеров), или харизматичного и могущественного начальника и подчиненного, который не может ему прекословить (как у греков).
Личные имена в минойских текстах также дают информацию к размышлению: «Финикийская богиня Тинит появляется как Ti-ni-ta… По крайней мере два имени, обнаруженных на табличках линейного письма А, Da-ku-se-ya и Su-ki-ri-te-se-ya – хурритские… Встречаются и египетские имена, такие, как Ne-tu-i-Re (что означает «Солнце божественно») [11.25].
Таким образом, религиозное строительство в Эгеиде, как и стройки дворцов и крепостей, протекало не без участия египтян, шумеров, хурритов и даже не очень религиозных финикийцев.
Язык пеласгов также является предметом дискуссий. Все, что мы о нём сегодня знаем – это слова Геродота (полиглота, между прочим): «На каком языке говорили пеласги, я точно сказать не могу… пеласги говорили на варварском (т.е. неизвестном ему, Геродоту – авт.) языке» [11.4]. Была у пеласгов и письменность. Памятникам пеласгийского языка считают т. н. Лемносскую стелу [В: Лемносская стела] и ряд кратких надписей VI – VII вв. до н. э., происходящих с этого же острова. Большинство лингвистов согласны, что язык этот не относится к индоевропейской семье. По многочисленным грамматическим показателям и даже совпадающим словам установлено родство языка стелы с этрусским и этеокипрским языками.
«В древнегреческий язык вошло большое число слов, оканчивающихся на -нт (-нф) и -ис (-исс), и отсутствующих в других индоевропейских языках. К этим словам наряду с такими географическими названиями, как Коринф, Тиринф, Линф, принадлежит наименование многих растений: гиацинт, нарцисс, кипарис и многие другие. По-видимому, всё это является наследием в греческом языке, полученным от раннеэлладских, догреческих племён (пеласгийских – авт.) … родственны древнейшему населению Малой Азии, так как и здесь встречаются сходные географические названия. Образцы характерной для этого периода керамики были обнаружены и в древнейших слоях Трои, а также на Крите… пеласги – это догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крита, т.е. те самые „минойцы“, которыми правил царь Минос» [11.28].
Кстати, о Крите. Удивительно, но античные авторы, говоря о пеласгах, упоминают Крит мимоходом. Насколько известно автору, практически никто из них не называет Крит родиной пеласгов. И это при том, что остров в силу своего географического положения был обречен на роль «плавильного котла» этносов Эгеиды и Восточного Средиземноморья, а во времена пеласгов был цивилизационным центром региона. Пеласги не могли не оставить свой след на Крите! Но если признать, что заселение пеласгами Эгеиды шло из Крита, то невольно закрадывается подозрение, что на Крит пеласги пришли с юго-востока, из стран Плодородного Полумесяца. Но, по-видимому, реальные заказчики фальсифицированной истории не приветствуют наличие подобных мыслей в наших неокрепших головах.
«Крито-минойская цивилизация… имела столько различных письменностей, что систематизировать их не удается до сих пор. Изначально символы имели пиктографический характер, но впоследствии, судя по всему, выделился некий стандартизованный набор знаков (т.н. критская иероглифика – авт.), который развился в критское линейное письмо А. Проблема расшифровки как критских иероглифов, так и линейного письма А (слогового – авт.) известна: сохранилось крайне мало источников» [11.29]. Печально. Видимо, «все снесено могучим ураганом», то бишь иудейским потопом с последовавшими за ним христианскими землетрясениями и исламскими песчаными бурями.
Но кое-что всё же сохранилось. Так, иероглифические тексты сохранились на 30 глиняных табличках, в 60 надписях на прочих глиняных предметах и, наиболее качественные, на каменных печатях и их оттисках общим числом около 200. Именно с изучения надписей на печатях начал свою деятельность первооткрыватель Минойской и Микенской цивилизаций А. Эванс. Он же первым отметил сходство критских и египетских иероглифов и «установил хронологические границы бытования критской иероглифики. Развившись в конце III тыс. до н.э. и войдя в широкое употребление около 2000 г. до н.э., она использовалась на Крите в течение примерно трех с половиной столетий… Подлинная иероглифическая система письма возникла лишь к XXI или XX в. до н.э. … А. Эванс насчитал <в ней> 140 различных иероглифов» [11.29; В: Лемносская стела].
Вторая критская письменность – линейное письмо А – развивает иероглифику; специальный знак здесь означает слог, обычно первый, слова. Письмо существовало где-то 3,9—3,5 тлн [11.30]. Третья – линейное письмо Б, появившееся, как считается, на Крите после пришествия туда ахейцев (связь линейного Б с Критом и/или ахейцами признаётся не всеми лингвистами и историками). Таблички с этим письмом «были обнаружены А. Эвансом в Кноссе, в развалинах дворца середины XV в. до н.э. (по другим данным XIII – XII в. до н.э., как и таблички, найденные в Пилосе [11.30]).
Критское линейное А (минойское) письмо, созданное для неизвестного догреческого языка, названного минойским, не дешифровано и по сей день. Критское линейное Б (микенское) письмо дешифровано в 1953 г. М. Вентрисом, предположившим, что оно создано для индоевропейского древнегреческого языка, носителями которого являлись ахейцы.
Автор перечитал последнюю фразу и… А что, все так пишут. Точнее, многие. Но что есть «древнегреческий язык»? Оказывается, это зонтичное название языковой группы – ряда значительно различающихся языков (диалектов), привязанных к этапам истории греков [В: Древнегреческий язык]:
– протогреческий (XX – XVII вв. до н.э.);
– микенский (XVI – XII);
– постмикенский (XI – IX);
– архаический (VIII – VI);
– классический (V – IV);
– эллинистический (III в. до н.э. – IV в. н.э.).
Так под какой язык разгадывал свои дощечки Вентрис? Под протогреческий? Вряд ли, его нет в природе. Создан искусственно методами сравнительного языкознания (компаративистикой [В: Компаративистика]). Директивно привязан к грекам, якобы уже жившим 4,3—4,0 тлн на территории современной Греции (разве что на севере, в Эпире и Фессалии). Тогда под микенский? Тоже нет, ведь он (Вентрис) как раз и пытался воссоздать микенский язык, отталкиваясь от линейного письма Б и считая его греческим. Бессмысленно гадать дальше, дадим слово М. Вентрису:
«На протяжении последних нескольких недель я пришел к заключению, что таблички из Кносса и Пилоса ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЁ ЖЕ НАПИСАНЫ НА ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ (почему „должны быть всё же написаны“, а не просто – „написаны“? – авт.) – на трудном и архаичном греческом, который на 500 лет старше Гомера и записан в довольно аббревиативной форме, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НА ГРЕЧЕСКОМ» (из выступления на ВВС в июле 1952 г. [11.31]).
Чувствуется, сомнения одолевали парня (ему не было и тридцати и он не был лингвистом), но он сказал, что должно было: ГРЕЧЕСКИЙ (тем не менее). Но архаический, трудный и аббревиативный. Не тот, который сразу за «тёмными» греческими веками, когда греки не то что писать, говорить разучились. Мычали только. Другой, который и вогнал их в летаргический сон, т.е. всё-таки микенский!
Однако некоторые лингвисты дешифровку Вентриса считают ошибкой. После трагической смерти М. Вентриса в 1956 г. под грузовиком многие кносские глиняные таблички перестали читаться с помощью его «сетки»; похоже, что прочитанные Вентрисом таблички навсегда останутся «табличками, прочитанными Вентрисом». Но надежда, как известно, умирает последней.
В противном случае «подвиснет» значительный кусок истории Древнего мира и Европы. Например: «… как указывает Бернар Сержан, вплоть до дешифровки линейного письма Б в начале 1950-х годов большинство специалистов не считали, что микенское население пользовалось индоевропейским языком… Вопросы об этническом происхождении носителей микенской цивилизации долгое время оставались одними из сложнейших, только после расшифровки линейного письма Б М. Вентрисом и Дж. Чедвигом утвердилось мнение, что это были ахейцы … <которые> по-видимому, происходили от северных, фессалийских ахейцев» [В: Микенская цивилизация].
Таким образом, микенцы вполне себе могут оказаться не индоевропейцами и не ахейцами, а ахейцы, как мы уже предполагали выше, не пришлыми греками, а одним из местных пеласгических племен, видимо, из Фессалии или из Малой Азии. Истинными же «арийцами» (т.е. греками) могут оказаться только дикие дорийцы, получившие своё индоевропейское греческое письмо, сразу алфавитное, от пеласгов, которым привёз алфавит финикиец Кадм. Отбросив детали, легенда гласит, что подарил грекам алфавит Кадм. Но об этом – ниже.
Интересно отметить, что до сих пор не утихают критические голоса о корректности дешифровки Ж.-Ф. Шампильоном египетских иероглифов. Если и он был не прав – рухнет вся древняя история. Правда, у Шампильона есть подпорка, какой не было у Вентриса – Розеттский камень, трилингва (памятник письменности, в котором примерно один и тот же текст отображается на трех языках).
Как мы уже говорили, критские иероглифы похожи на египетские; «многие ученые считают, что система письма (иероглифики – авт.) была заимствована критянами у египтян… Сторонники этой гипотезы иногда идут еще дальше и считают, что от иероглифов Египта произошли не только знаки рисуночного письма, но и слоговые знаки линейных писем А и Б острова Крит» [11.29].
Есть и такие, М. Поуп, например, которые усматривают шумерский след в символах критской письменности. М. Поупа негласно поддержал И. Дьяконов, указавший в свое время на т.н. «банановость» шумерской лексики. Имелось в виду наличие большого количества слов с повторением слогов (типа ba-na-na). При этом И. Дьяконов отмечал, что «банановость» свойственна и минойскому языку, «чьи генетические связи до настоящего времени не установлены [В: Дошумерский субстрат].
В критской письменности есть и еще один след – финикийский, т.н. библское письмо (библская псевдоиероглифическая письменность) [В: Финикийское письмо; В: Библское письмо], открытая М. Дюнаном в 1929 г. в Библе. Считается, что письмо занимает промежуточное состояние между слоговой и алфавитной письменностью, появилось где-то 4,0 тлн. Письменность не дешифрована, но установлено, что она разработана для несемитского и неиндоевропейского языка (сказать просто – для финикийского – язык немеет: ведь «ведущие семитологи» давно записали финикийский язык в семитскую группу …).
Библское письмо могло быть завезено на Крит 4,0—3,9 тлн финикийцами второй миграционной волны; это хорошо коррелирует со временем появления критского линейного письма А – 3,9—3,8 тлн. Похожи по начертанию и ряд знаков библского и критского письма [В: Финикийское письмо; В: Библское письмо].
Сказанное дает возможность предположить, что к появлению на Крите линейного письма А причастны финикийские пеласги. А поскольку письмо Б заимствует у А до 70 символов, гипотеза о создании пеласгами и микенского письма (линейного письма Б) вместе с цитаделями микенской цивилизации не выглядит абсурдной.
Наконец, практически все лингвисты считают, что «критский и лувийский иероглиф развились из одного пиктографического источника… поэтому предполагают, что письменность в Малой Азии могла появиться под влиянием критян или просто занесена критянами в Анатолию» [11.29].
Возьмем небольшую паузу и суммируем сказанное. Итак, мы имеем МИНОЙСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, существовавшую на Крите и в окрестностях 4,0—3,4 тлн и отмеченную рядом признаков, в первую очередь своими дворцами и линейным письмом А. МИНОЙЦАМИ в узком смысле мы считаем её основных создателей – шумеро-египетскую и финикийско-хурритскую критские общины, критских лелегов и пеласгов соответственно; минойцами в широком смысле являлось все население, проживавшее на Крите в указанное время. МИНОЙСКОГО НАРОДА (ЭТНОСА) не существовало, Крит был полиэтническим; вероятно, существовал МИНОЙСКИЙ ЯЗЫК – язык одного из этносов Крита (вряд ли пеласгов), «зонтичный» или специально созданный пеласгами (финикийцами) «лингва франка» – язык для коммуникации между критскими этносами (так же поступили мицраимяне в ПротоЕгипте, создав местный лингва франка – аккадский язык (гл. 7,10). Пеласги (финикийцы) разработали и письмо для этого языка – МИНОЙСКОЕ ПИСЬМО – коим явилось слоговое линейное письмо А.
Где-то 3,7—3,6 на Пелопоннесе появляется новая культура, отличительным признаком которой стали цитадели и линейное письмо Б. Её назвали МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ и привязали к Миною в качестве позднего этапа, завершившегося 3,3—3,2 тлн. МИКЕНЦАМИ в узком смысле мы считаем её основных создателей – критских пеласгов, переселившихся на материк, что и обеспечило, главным образом, связь двух цивилизаций. Микенцами в широком смысле являлось все население региона, расширившегося с Пелопоннеса практически на всю Пеласгию этого периода, т.е. на Микенскую Пеласгию. МИКЕНСКОГО НАРОДА (ЭТНОСА) не существовало, т.к. греческий этнос еще не сложился и Микенская Пеласгия была полиэтнической. Позже, 3,4—3,3 тлн появился МИКЕНСКИЙ ЯЗЫК – язык одного из этносов Пелопоннеса; МИКЕНСКИМ ПИСЬМОМ стало разработанное пеласгами (финикийцами) для этого языка слоговое линейное письмо Б.
(Небольшой штрих в подтверждение сказанного: среди знаков критской иероглифики, которую принесли на остров египтяне, нет знака «аист», обозначающего фонему «кар»; но этот знак появляется в минойском линейном письме А и остается в микенском письме Б [11.32], которые, как мы считаем, создали пеласги – «журавли». И ещё одно: по-видимому, в разработке минойского и микенского письма принимали участие (возможно, определяющее) финикийцы, культурные и иные связи которых с пеласгами всегда были очень тесными.)
Отметим, что минойский язык использовался и в континентальной Пеласгии, о чем свидетельствуют найденные там таблички с линейным письмом А [11.33]: «Уже давно были известны происходившие из различных мест Греции сосуды и другие предметы с посвятительными надписями, писанными минойским письмом (из Орхомена, Фив, Элевсина, Микен, Тиринфа). В последнее время, как уже указывалось, открыт был обширный архив табличек, происходивший из древнего Пилоса, а также аналогичные таблички из Микен. То обстоятельство, что все эти как посвятительные надписи, так и архивные таблички писаны минойским письмом, заставляет предполагать, что они составлены были на минойском, а не на греческом видимо, микенском – авт.) языке».
И обратно, микенское письмо проникло на Крит и некоторое время использовалось там наряду с минойским (архивные таблички XIII – XII вв. до н.э. [11.34]). Минойское письмо на материк могли занести пеласги, микенское на Крит – ахейцы.
Обращает на себя внимание некоторое запаздывание (на 100—200 лет) времени появления микенского языка от времени появления Микена. Как представляется, дело тут не в приблизительности датировок и не в том, что пока строили крепости, до языка руки не доходили. Дело в отсутствии в это время проблемы межэтнического общения. Не было и этноса, для которого в силу каких-то причин пеласги решили бы создать письменность. Он появился в XV – XIV в. до н. э. АХЕЙЦЫ?
Но прежде чем поговорить об ахейцах, еще несколько слов о языке пеласгов. Несомненно, у них был свой письменный язык, но, похоже, они не горели желанием широко внедрять его в Эгеиде: их язык не использовался ни как минойский, ни как микенский, хотя письменность для этих двух языков разработали именно они (или финикийцы для них). Держали свое письмо в тайне, на них это похоже: ноитская школа. Как, по-видимому, тщательно скрывали от посторонних глаз свои тексты, не носящие архивный (учетный) характер. Кроме того, возможно, ко времени Микена или чуть позже пеласги владели алфавитным письмом, что давало им известные преимущества во всех сферах жизнедеятельности.
Наиболее значительным памятником языка пеласгов считается, как уже говорилось, Лемносская стела, уцелевшая случайно при христианских зачистках, т.к. оказалась вмурованной в стену церкви в Каминье, на юго-востоке острова. Избежала она и современной селективности, т.к. была обнаружена в 1885 г. Считается, что стела была создана до 510 г. до н.э., когда на Лемнос пришли греки и подвергли его тотальной «эллинизации». Надпись на стеле, сделанная с использованием букв древнегреческого алфавита, до сих пор не расшифрована [В: Лемносская стела].
«Итальянская археологическая экспедиция 1928 года обнаружила надписи, сходные с надписью стелы, на фрагментах местной керамики. Эта находка подтвердила, что язык (и алфавит) стелы был распространен на Лемносе догреческого периода и являлся разговорным, то есть стела не была привезена на Лемнос из другого района Средиземноморья. Также на Лемносе был найден камень с четырьмя словами того же языка… Новая лемносская надпись (Эфестийская надпись – авт.) была найдена во время раскопок Эфестии на о-ве Лемнос… состоит из 26 букв» [В: Лемносская стела].
А поскольку практически все античные авторы согласны в том, что пеласги проживали на Лемносе, возможно, максимально долго, и, более того, согласно Геродоту Лемнос стал их «последним пристанищем вплоть до VI в. до н.э.», то лингвистам не остается ничего другого, как признать язык стелы ПЕЛАСГИЙСКИМ. А также констатировать, что язык этот родственен этрусскому и не относится к индоевропейской языковой семье. Что полностью вписывается в нашу теорию.
Но почему надпись сделана пеласгами греческими буквами? Конспирация, конспирация и еще раз конспирация? Пеласги, как и их предки хананеи, были скрытными, а перед уходом из какой-то местности могли уничтожать следы своего пребывания в ней. Могли и шифровать свои надписи, в простейшем варианте устраивая взаимно однозначное соответствие между символами (логограммами или буквами) своего языка и другого, чужого.
Однако возможны и другие версии. Поставленный вопрос тесно связан с другим: а кто и для кого создал греческий алфавит? Считается, что где-то в XV в. до н.э. финикийцы впервые разработали алфавит (абджад, 22 буквы для согласных звуков); сама идея алфавитного фонетического письма, по-видимому, также принадлежит им. Вскоре, как представляется, об этом узнали пеласги: финикийцы сами познакомили их и с идеей алфавита, и с ее реализацией. НЕ ПОЗДНЕЕ XIV в. до н. э. ПЕЛАСГИ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ АЛФАВИТ, усовершенствованный финикийский, содержащий гласные буквы. И этот алфавит имел то же начертание букв, что и более поздний греческий. Возможно ли такое? Еще как, достаточно вспомнить использование латиницы и кириллицы для многих языков различных языковых групп.
«Но ведь известно, что легендарный Кадм изобрел древнегреческий алфавит и подарил его грекам! И он, помнится, был финикийцем, но греки разрешили ему построить город Фивы на своей земле», – не упустит возможности показать эрудицию наш замечательный читатель. И снова дежавю: финикийцы создают Тору и отдают авторство мифическим евреям (см. Введение); пеласги-финикийцы создают древнегреческий алфавит и отдают авторство мифическому Кадму. На фигуре Кадма стоит остановиться. Но не теперь, позже.
11.3. АХЕЙЦЫ
Об ахейцах мы знаем от Гомера; о том, кого он имел ввиду под этим этнонимом – дискуссии ведутся и поныне. Или пришлый народ, захвативший власть в Пеласгии во времена Микена, или всех микенцев, называя их то пеласгами, то ахейцами, или кого-то ещё. Специалисты даже стали использовать два разных термина – «ахейцы (Гомер») и «ахейцы (племя)», дабы употреблять мух и котлеты отдельно (раздельное, так сказать, питание). Здесь надо сказать, что эпическме поэмы Гомера – это «греческое всё», как Библия для евреев. И если в «Илиаде» Поэт упоминает ахейцев 598 раз против 182 упоминаний аргивян, 138 – данайцев и 1 (!) – эллинов 1, то никто и никогда не переубедит греков, что в эпоху Героев они не назывались ахейцами. А то что львиная доля гомеровских топонимов, этнонимов, имен и пр. так и не обнаружена археологами и учёными – не беда, всё можно списать на свирепых и диких дорийцев, не знавших, что творят.
Фукидид говорил, что Гомер не знал общего этнонима для того народа, который мы знаем как греков или эллинов; потому поэт (возможно, с соавторами) использовал этнонимы отдельных известных ему племен – ахейцы, данайцы, аргивяне – в контексте, заставляющем думать, что речь идет о всем народе Пеласгии времён Троянской войны:
«… Эллада во всей своей совокупности не носила еще этого имени, что такого обозначения её вовсе и не существовало… названия ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги. Об этом свидетельствует лучше всего Гомер. Он жил ведь гораздо позже Троянской войны и, однако, нигде не обозначает всех эллинов, в их совокупности, таким именем, а называет эллинами только тех, которые вместе с Ахиллом прибыли из Фтитотиды… других же Гомер в своём эпосе называет данаями, аргивянами и ахейцами» ([11.35], 1.1.3).
Итак, ни Эллады, ни Греции ещё не было, а ахейцы (Гомера) – вот они. Гомеровский этноним подхватили античные авторы. Ни о каком «вторжении ахейцев» ни Гомер, ни историки и писатели античности не говорили. Заговорили, другие авторы, когда время пришло: ахейцы де, индоевропейцы из «Придунайской низменности или даже степей Причерноморья», греки, вторглись вначале в Фессалию (с начала II тыс. до н.э.), позже – на полуостров Пелопоннес [В: Ахейцы]. Здесь они основали свою Микенскую цивилизацию, построили свои цитадели и города, свой могучий флот, создали своё микенское письмо (вариант: покорили пеласгов и заставили их сделать всё это) и т. д. и т. п.
Потом много буйствовали на морях, надорвались в Трое и попали под молох братьев-дорийцев. Последним прибежищем, отведенным им дорийцами, якобы стала Ахайя (Ахея), гористая область на севере Пелопоннеса, не имеющая выхода к морю, где герои Трои могли заниматься скотоводством. Да еще фессалийская Ахайя, на юго-западе Фессалии, также пригодная для выпаса коз и овец. Ну и разведения свиней, куда без них.