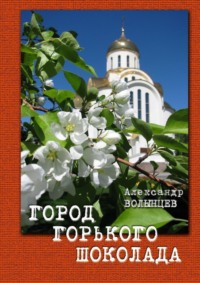
Город горького шоколада
А потом в школу пошел, у нас был урок рисования. Вот. А потом, когда я уже учился в ремесленном училище, поступил в городскую студию. И там я получил хорошие начальные уроки. Вот поэтому-то я и стал полковым-то художником.
Когда я сюда приехал, здесь у нас была великолепнейшая студия. Преподаватели были просто чудо! Я попал в академию! Мы там дневали и ночевали! Это наша была жизнь, понимаешь! Об этом только и говорили, про это только и думали…
Что говорить, Александр, я тебе честно признаюсь, я когда в Чернобыль-то поехал, тоже с собой взял этюдник. У меня там масса была этюдов. Правда, у меня их все поотбирали. Сослуживцы, друзья-приятели: «Дай-дай-дай…» Ну, нравится – на, бери…
Этюдник был мой спаситель. Потому что там или пить водку, или вот, сидеть за мольбертом.
Это было мое спасение.
Мое спасение…
«…Курица яичницу не оценит»
«Вот я считаю, что этот вернисаж
украсил бы любые стены, любой зал.
Посмотрите, какая красота…
Я горжусь, конечно, таким соседством…
Он был светлый человек,
влюбленный в прекрасный мир, во всё прекрасное…»
Михаил Иванович Шаров, ветеран ФГУП «ПО «Маяк»
Как-то мы с дедом (я еще был совсем пацаном) попали на Каспий. И меня вот эта стихия просто захватила. Вот так вот… И у меня масса этюдов на морские темы, и до сих пор я к морю неравнодушен. Когда езжу туда – и на Черное море, и на Балтику, и на Каспий, – я беру всегда с собой этюдник и непременно мажу. Непременно.
Ну, честно говоря, это было не то что в подражание… А просто я, как говорят, хотел немножечко, что ли, поконкурировать с Айвазовским. Ну, конечно, куда мне, Господи… Это же великий мастер. Но, как некоторые говорят, вроде бы ничего гляделись они…
Мне самому трудно… Ведь курица яичницу не оценит. Да? Я тоже так думаю. Вам-то это, зрителям, виднее. Вот.
А вообще-то я к этому отношусь немножко иронично. Конечно, это для меня большая отдушина, это факт. Но это все равно, как ты ни крути, не выше, чем хобби.
Дин Рид с агатом
«Он и художник, он и баянист, он и певец.
И когда он всё это делает, делает с такой душой, что его приятно слушать, приятно смотреть на его картины.
Он не делит людей на плохих и хороших.
У него все люди – любимые.
Вот такой он человек».
Альберт Сабирович Тимер-Булатов, ветеран «ЮУС»
С Николаем Николаевичем Дындыкиным мы поехали на Всесоюзный симпозиум по вычислительной технике в Минск.
Вот. Симпозиум закончился, а жили мы в гостинице «Орбита», это центральная гостиница Минска. Ждали мы там одного приятеля… Мы ему, кстати, привезли агат – полированный, с такой богатой гаммой цветовой и рисунком… А он был срочно вызван в Варшаву…
«Ну, что, – говорю, – Николай, пойдем позавтракаем да и поедем-ка мы в аэропорт и домой…» – «Давай».
Пошли в ресторанчик на этаже, заказали завтрак. Потом смотрим, недалеко, столика за три от нас, сидят двое. Один такого восточного типа парень, молодой, и второй – ну вылитый Дин Рид!
Я говорю: «Николай Николаевич, погляди-ка, это не Дин Рид?» – «Наверное, он!»
Ну, конечно, интересно…
Вдруг этот, восточного типа парень, поднимается, идет к нам и спрашивает: «Нет ли у вас авторучки?».
Я достаю свою ручку и ему отдаю.
Он уходит, что-то они там пишут, что-то между собой говорят, склонившись.
Мы сидим, завтракаем, потом парень этот приносит обратно авторучку, говорит: «Спасибо!».
Мы уже убедились: точно Дин Рид. И решили снахальничать. Я достаю свой партбилет, а у меня там была закладочка с «Интернационалом» красным цветом. А у Николая не было ничего, кроме газеты «Правда».
И вот мы к ним подходим, я ему кладу этот листочек, Николай – газету, тот молча, уже зная, что надо делать, пишет автограф.
Мы говорим: «Спасибо!», он улыбается, и мы уходим. Идем в номер, собираемся, и вдруг – у меня идея!
Говорю: «Слушай, Николай! Давай мы Дину Риду подарим этот агат-то! Наверное, довольный будет мужик-то!»
Он отвечает: «Идея!»
Всё, мы к портье. Спрашиваем, где он квартирует. «Двумя этажами ниже».
Мы – туда. Звоним. Открывает этот восточный тип (он у него вроде пресс-секретаря). Мы говорим: «Извините, вот мы хотим подарить одну вещицу. Мы с Урала».
Дин Рид выходит, улыбается. Я ему это дело преподношу. Говорю: «Вот вам подарок от уральцев». – «О-о! Презент!» Он меня прямо обнял, даже почеломкал, а я когда глянул ему в глаза: они у него как пеплом присыпанные, усталые-усталые. Видимо, у него такое состояние было жуткое… Но он держался: «О! Спасибо! Спасибо!». Конечно, с акцентом он говорил: «Айн момент!». Побежал в другую комнату, приносит… Кстати… Где же она у меня… Вот такая фотография в сомбреро, и он прямо на лицевой стороне по-английски написал (а я по-английски ни бельмеса не спикаю, я только чуть-чуть шпрехаю). Жена перевела, там хорошо написано. А для Николая Николаевич такой фотографии уже живой не оказалось. Пришлось подарить ему открытку такую, уже растиражированную. Так вот мы с ним и пообщались. Это, наверное, был год 1978-й. Если не 1976-й.
Он ведь частенько у нас бывал. Говорили, что он возвращался с БАМа в Германию и в Минске останавливался. А потом вскоре, в начале 80-х, он… Кто говорит, его утопили, кто говорит, что он сам… В общем, до сих пор всё это так загадочно. Загадочно… Очень загадочно…
Ну, конечно! Дин Рид – это интересно… Это всё…
О! У меня с Велиховым была встреча – вообще чудо!
Что получилось… Я был в командировке: ехал в Минск через Москву.
Мне было нужно на Тверскую (тогда она называлась еще Горького), там почти напротив памятника Юрию Долгорукому – Дом техники. Мне нужно было там визу одну получить, чтобы в Минске мне выдали необходимые агрегаты.
Ага. И вот я открываю дверь Дома техники, а оттуда вываливается (это был апрель 1986 года, за десять дней до взрыва!) Евгений Павлович, в тенниске, такой крепыш, такой шарик… Ага. Я же его знаю, а он-то меня – нет. Я ему, конечно, уступаю, даже по этикету это нужно, потому что надо выходящего выпустить. А он уперся и стоит. Чтобы я прошел. А тут я уперся. И вот мы, как два барана, стоим и смотрим друг на друга. Потом я чую, что он встал насмерть. Я сказал: «Спасибо!» – и прошмыгнул внутрь…
Потом мы с ним только после аварии на ЧАЭС уже там встретились. Правда, общались мы не больно много. Я не та сошка. Но все равно я ездил на выборы, когда его выбирали директором Курчатовского института. Естественно, я белый шар ему добавил, да. Мужик интересный. Очень интересный.
Слушай… Александр… Что я тебе хочу сказать. Ты не ту личность выбрал на эту беседу. Есть у нас такой Сиволап Николай Ефимович. Живет он на Пушкина где-то. Вот. А Горст Отто Фридрихович? А Виктор Федорович Богатырев? Это всё такие строители, знаменитые строители…
Они прямо тут с первых дней.
Да, Господи… У нас же Россия – это кладезь. Кладезь…
ВЕСЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ…

Юбилею ОТИ НИЯУ МИФИ посвящается
«Лауреат… Доктор… – отмахивается наш собеседник. – Все это получалось автоматически, когда страна росла. А все неприятности у меня начались, когда строительство страны прекратилось. Я еще был устремлен куда-то: «Ах, это надо!»
…Да, он просил меня не сосредоточиваться на его персоне, а больше рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о перспективах «Маяка» и ОТИ МИФИ…
Но я не смог выполнить эту просьбу. Во-первых, потому что мне нужно было рассказать именно о нем. А во-вторых, даже если и рассказывать об институте, о коллегах, о науке, о конструкторском бюро, о его работе на «Маяке» и в ОТИ МИФИ, все равно получится рассказ о нашем собеседнике – лауреате Государственной премии, докторе наук, профессоре ОТИ МИФИ Александре Николаевиче КОНОНОВЕ.
Восьмой ребенок – Александр второй…
Он действительно был восьмым ребенком в семье.
В те годы люди не знали современного девиза демографического кризиса: «Зачем плодить нищету?». Богатство не измерялось «мерседесами», коттеджами и золочеными айпадами. Просто жили, наверное, раньше по любви. И дети от любви рождались. А не от модного ныне «планирования семьи», когда сначала «поживут для себя», а потом захотят «завести ребеночка для себя». Как морскую свинку или хомячка.
Правда, медицина тогда была не на высоте. Что было – то было.
Из восьми детей Кононовых выжило только трое младших.
– Мать с бабушкой ругали советскую власть за то, что когда хлеба не было, когда – сахара, – рассказывает Александр Николаевич. – Всё время в очереди стояли. Не было одежды, обувки… Всё это было в колоссальном дефиците. Всё – правда. Я и по ночам стоял в очереди.
Помню 1933—1934 год, мне было 3—4 года, как мы с матерью рвали траву, а мать говорит: «Рвите-рвите, я вам лепешки испеку…» Эту тропку я до сих пор помню и слова матери помню. Но… Честное слово, я никогда не воспринимал, что у нас голод. Просто потому что был еще мальчишкой. И во время войны Бог знает что ели.
Но вот за что мать хвалила советскую власть, так это за то, что дети выучились и появилась возможность детей лечить. Врачи появились. И эта фраза меня поддерживает всю остальную жизнь.
И когда сегодня говорят про свободу… Какая свобода? Для кого? Для очень богатых? Свобода до рукоприкладства, до убийства и прочего?
– По-моему, свободу нельзя дать. Она либо есть у человека, либо нет. Это состояние внутреннее… Человек может быть свободным, находясь в тюремной камере.
– Вот и я в советское время чувствовал себя абсолютно свободным, честное слово. Абсолютно. Потому что во времена всех этих репрессий я был мальчишкой, они нас особо не коснулись. Правда, один дядя был посажен и умер в лагере. А вот другого дядю посадили, но это уже в конце того периода, когда тюрьмы переполнены были. Он просидел там сколько-то, их освободили, накормили, в санаторий послали. До этого он был управляющим отделением совхоза, а после стал директором совхоза. Было это в 1939 году, когда освобождали. Не мог же вечно продолжаться период репрессий.
– Это, видимо, когда пришел Берия. Опубликованы сведения, что после его прихода в 1939—1940 годах были освобождены из мест лишения свободы и реабилитированы, по одним данным, 837 тыс. человек, по другим — 223,8 тыс. заключенных из лагерей и 103,8 тыс. ссыльных.
– Возможно… Но непосредственно нашей семьи репрессии не коснулись. Мой отец окончил два класса. Правда, он потом много читал, но два класса есть два класса. Мать моя ни одного класса не окончила. Она читала по слогам. А расписывалась кое-как. Так что я, как говорится, с самых низов. Мать говорила: «Надо учиться!» Житейская мудрость…
– А родом вы откуда?
– Город Балашов Саратовской области. Мать была из деревни в сорока километрах от Балашова. А отец – из другой деревни, рядом с Балашовым. Потом, при мне уже, она вошла в состав Балашова.
– Оттуда вы и поступали в институт?
– В Балашове хорошая школа. Это был уездный город. Там были преподаватели старого поколения – дамы. Я знал, по крайней мере, четырех из тех, которые из дореволюционных школ. Старомодные, строгие, безупречные, суровые… Но мы были к ним полны уважения. То есть там хорошо учили. Конечно, после окончания школы надо было куда-то уезжать. Там ведь заводы были, мясокомбинат… В то время авиаучилище большое было. Если вы читали книгу «Два капитана», то помните, что главный герой учился в Балашове. В этом училище. Это было училище транспортных летчиков. Его теперь куда-то в Ейск перевели. А чтобы продолжать учебу, нужно было уезжать.
– Как сложилась жизнь ваших родственников?
– Брат (1927 года рождения) ушел в армию, когда ему еще и 16 лет не было. Сразу в танковое училище. Закончил училище младшим лейтенантом, поехал за танками в Горький. Им танки не выдавали. А тут и война кончилась. Он всю жизнь страшно переживал, что не довелось участвовать в военных действиях. Причем это не то что геройство какое-то, а чувство того, что свой долг не выполнил до конца.
И так получилось, что я раньше его окончил вуз. А когда его демобилизовали (он ушел в училище, не окончив 10-й класс), я ему помогал учиться.
Затем он всю жизнь проработал в Жуковском, в летном исследовательском институте, где испытывают самолеты. Туда же пришел после фронта и муж нашей сестры, он там в кадрах работал. Брат мой руководил группой, которая организовывала дальнюю связь. Когда испытывали «Буран», они ходили в море, становились где-нибудь в океане – специальный корабль, тогда не было кругосветной дальней передачи, поэтому корабли по траектории вставали на морях. Он бывал в таких экспедициях. Он умер два года назад.
А сестре было 96 лет. Она тоже в Жуковском жила. Еще прошедшим летом я к ней ездил. А в июле этого года ее не стало…
Я – младший из нашего семейства. Жалею, что у матери подробности не спрашивал. А первый их ребенок был 1910 года рождения. Тоже Александр. И меня, восьмого, тоже назвали Александром.
В кузнице лауреатов
Что ни говорите, а я до сих пор удивляюсь той тяге к знаниям, которая была свойственна этому поколению. Пережившие войну, помнившие, что такое настоящий, изнуряющий голод, который невозможно было бы утолить и тонной сникерсов (да и слов-то таких тогда в обиходе не существовало), эти люди готовы были и дальше ограничивать себя в еде, одежде и сне, лишь бы продолжать учебу…
Вот и Александр Николаевич в 1947 году подал документы в Московский энергетический институт (МЭИ). Поступал на факультет «Автоматика и вычислительная техника», но поскольку нуждался в общежитии, а этот факультет общежития не имел, то пришлось пойти на другой факультет, на электроэнергетический.
Через год ему как отличнику и к тому же имеющему чистую анкету (то есть никто из родственников не был ни осужден, ни в оккупации не побывал) предложили перейти на спецфак – физико-энергетический факультет. В том же МЭИ.
– Там не было первого курса, и попасть туда можно было только со второго курса. По завершении 4 курса нам объявили, что нас всех переводят в Московский механический институт (ММИ). И я в 1953 году оканчивал уже ММИ. А в 1954 году он стал называться Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ).
– Каковы были требования в тогдашних вузах?
– С нас шкуру драли (смеется). Мы же на спецфаке учились. Всю технику нам читали плюс университетский курс по физике и математике.
Кстати, у нас ни одной девушки на курсе не было… Мы не знали, что такое с девушками встречаться, «любовь крутили», как правило, по почте.
Моя будущая супруга училась в Ленинграде в университете, а я в Москве. А родом мы с одного города. Иногда я, накопив деньги на билет, приезжал на праздники в Питер. Мы ходили там в театры, в кино, в музеи. Недолго. День, два. Когда она ехала домой через Москву, аналогично проводили время и в Москве. Мы не мучились, честно говоря.
Это было послевоенное время, мы все были отличники или около, и вот эта жажда знаний была главной. Понимаете, в чем дело? И это было не напускным чем-то, а естественным.
Когда мы собирались, говорили: «Слушай, я вот читал в той книжке, у такого-то автора, приведена вот такая электронная схема…» Сейчас я понимаю, что наш уровень знаний был скромным, выходец из института – это лишь начало, фундамент, еще не устоявшийся. Но все равно это был наш интерес, и это был главный интерес жизни.
И у нас не вставал вопрос, какую зарплату мы будем получать. Не вставал. Мы знали, что зарплата будет маленькая.
С третьего курса мы были уже распределены по научно-исследовательским институтам (чаще всего – по академическим), и два дня в неделю мы занимались в этих институтах.
Я был с товарищем в физическом институте Академии наук. Тогда этот институт считался головным в стране. Директором был Сергей Иванович Вавилов. Там начинали все сегодняшние Нобелевские лауреаты. Я хорошо лично знал (и он ко мне тоже хорошо относился) Павла Алексеевича Черенкова, автора знаменитого эффекта Вавилова-Черенкова.
– «Свечение Черенкова» – его именем названо?
– Да. Совершенно верно. Он тогда еще не был Нобелевским лауреатом, но его книга уже была издана. Гинзбурга рядом с нами я часто видел. Он был тогда молодой, вёл себя несколько, как мне тогда казалось, высокомерно… Будущие лауреаты Нобелевской премии Г.Н.Басов и А.М.Прохоров тоже там трудились. Больше Прохорова встречал. Но они все оттуда. Тамм, Франк – тоже лауреаты, вместе с Черенковым…
– Чем еще запомнились студенческие годы?
– Экспедициями на Памир. Мы работали в лаборатории космических лучей. Там был подход такой: аппаратуру ты налаживаешь сам. Вот мы получили аппаратуру, которая только что из-под монтажа. Она только-только «задышала». Нам ее отдали – езжайте на Памир. Уже времени нет. Приехали и месяц мы ее там налаживали. Сами понимаете, студенты, а аппаратура – такой не было в мире ни у кого. Сейчас она кажется мне примитивной, а тогда – не было.
Студенты-физики университета изучали сами космические лучи, а мы – аппаратуру, которая обеспечивает их работу. Это было замечательное время. Конечно, трудились с утра до вечера…
Это была школа!
Я потом, когда приехал, с этой аппаратурой уже лично с товарищем вдвоем на уровне земли измерял, а потом в метро на станции «Кировская» (сейчас остановка «Чистые пруды» называется) мне дали комнатушку… Там, под землей, оказывается, много комнатушечек, малюсеньких-малюсеньких! Я там еще налаживал эту аппаратуру и проводил измерения. Чтобы можно было изучать, как космические лучи проходят землю. Мы изучали мезоны. Есть такие частицы с промежуточной массой между электронами и протонами.
Это было интересно. Очень. Мы многого там еще не понимали из физики, в электронике мы тоже многого не знали. По большому счету. Но это было интересно. Знали, что искать. И как раз там мы и получили известие, что нас переводят в ММИ. А мы не хотели. Потому что энергетический институт тогда был отменный институт. Колоссальный институт. А в ММИ еще шел период становления.
– После окончания института как вы попали в наш город?
– Когда началось распределение, я только потом узнал, что на меня подали три заявки: в аспирантуру, в физический институт (куда я и сам хотел перейти, продолжать свои работы) и еще… Один знакомый физик мне сказал: «Хотите встретиться с Федоровым?» Вы папанинцев знаете? Вот там среди них был Евгений Константинович Федоров, метеоролог. Он был директором Геофиана (Геофизический институт) и набирал студентов, причем старался набирать студентов по рекомендации. И вот нас двоих порекомендовали. Мы пришли к нему. «Вот, ребята, я вам предлагаю устроиться ко мне на работу». – «Да мы не москвичи!» – «А неважно, вы в Москве жить не будете, вы будете жить по экспедициям». – «Ну, тогда ладно…»
Не пустили. «Нет. Вы будете работать в другом месте. Вот вам заявка, объект Мурашова…» Это сюда, в «Сороковку». Кстати, я здесь так и не встретил никакого Мурашова… Другим называли другие фамилии…
Я говорю: «У меня есть невеста. Я уже закончил, а она – на пятом курсе…» Мне говорят: «Мы вам не советуем жениться сейчас. Мы вам ее пришлем…»
– Прислали?
– Да. Больше полувека вместе прожили… А тогда нам выдали деньги, подъемные, и мы с товарищем приехали сюда. С Комиссаровым. Годом позже приехал Думанов. Мы с ним в одном общежитии жили, учились на одном факультете. Достаточно близкие друзья с ним были.
– «Взяли под козырек» и поехали?
– Время тогда было совсем другое: старшие тебе говорят, значит, исполняешь. Я привык…
«Он мне родня по юности…»
Когда я впервые услышал песню Юрия Шевчука, в которой была эта строчка («Он мне родня по юности»), то понял, что Шевчук – поэт. Не «автор текстов» своих песен, а именно – поэт. Потому что уместить в одной строчке десятки томов философско-психологических изысканий о ценности юношеской дружбы, найти подходящий образ, уникальную метафору может только настоящий Поэт. Причем знающий, о чем говорит, и отвечающий за свои слова.
И ведь, действительно, нередко те, кто делил с нами в юности один сухарик, кусок сахару или сухие портянки, становятся ближе родни по крови. «Родня по юности…»
И хорошо, когда есть о ком вспомнить, спустя десятилетия, и сказать: «Это мои друзья…»
Наверное, поэтому Александр Николаевич Кононов с особой теплотой рассказывает о своих институтских друзьях.
– У нас в группе было три Александра. Первый – Саша Лебедев, фронтовик. Большой, высокий. Не отличник, но учился очень хорошо. Главной его особенностью было: каждое второе слово – мат. Фронтовик… Сам он был родом из Загорска. Но, что самое удивительное, на экзаменах, когда он отвечал, то не матерился. Так вот он был – Саша.
Второй – чуть меня постарше, но тоже с 1930 года – Сашка Комиссаров. Это вот мой друг, с которым мы сюда приехали. Он отличался несколько хохлятскими черточками, некоторым упрямством. Но мы его выбирали старостой, он скрупулезно относился ко всему. Он был – Сашка.
А я был самый младший из троих, не очень серьезный – Санька.
То есть была такая градация по именам, и сразу было понятно, о ком идет речь. Как-то это произошло само собой.
Если Сашка был старостой, то я был комсоргом, заводилой в таком плане…
Меня больше привлекала динамика, а его – фундаментальность.
– И сюда вы попали с Комиссаровым?
– Да. Я по специальности инженер-физик, а профессия – физическое приборостроение.
На работе я числюсь с 19 марта 1953 года. Как меня оформили в Москве. Приехал сюда в апреле 1953 года и вышел на работу. А осенью мне говорит начальник хозяйства Семен Николаевич Работнов (он преподавал в МИФИ и был завкафедрой физики): «Слушай, Саш, там у нас физика нет, преподавателя, иди им расскажи про физику».
Это было сказано таким тоном, что я подумал, что надо в течение часа-двух рассказать что-то такое. Я пришел, а оказалось, мне предлагают читать физику в техникуме (это была тогда единая организация с институтом, с единым директором). И я ни много ни мало преподавал физику в этом самом техникуме. А потом стал преподавать в институте. И с тех пор я преподаю, по сегодняшнее время.
– А начинали вы, по сути, в период становления МИФИ?
– Да. Я пришел на второй год работы института в нашем городе. Там ничего еще не было организовано. И вот мы с Комиссаровым стали уже преподавать. Как-то идем: «Ба! Марс Думанов! Ты откуда появился?» – «А я с Красноярска, у меня здесь стажировка…» С Марсом мы были знакомы и по учебе, и по жизни в общежитии. Мы жили в общежитии спецфака, оно было компактное, в нем жили студенты только нашего факультета, аудитории тоже были компактные, вход – по отдельным пропускам.
И вот мы Марсу и говорим: «Давай-ка к нам в институт. Преподавать…» Так он начал работать в нашем институте.
Мы, кстати, вместе получали Государственную премию. Он тоже стал лауреатом, вместе со мной. Я был руководителем этой группы, всей, которая туда входит, потому что наше ОКБ головное по министерству было. Я был начальником ОКБ КИПиА, а вот Марс Юнусович – приборист этого завода, еще был с Томска-7 главный приборист, с Красноярска-26 главный приборист, из московских институтов… Такая вот команда была…
– А в институте что преподавали тогда?
– Здесь мы с Думановым много работали по организации кафедры «Электроника и автоматика». Марс преподавал «Теоретические основы электротехники», «Электротехнику» и ряд других предметов электрического направления. Я потом преподавал дисциплины приборного направления, тоже электрические, только более компактные, направленные на приборы. Марс развил бурную деятельность, и мы друг с другом часто советовались, обсуждали…
– Кто еще вместе с вами приехал в Озёрск?
– Кроме Саши Комиссарова, который впоследствии погиб в автокатастрофе, со мной вместе приехали Спирин (в последнее время он был директором завода 156), Толик Жаров (он был главным инженером завода 23). Вот нас четверо. А следующий поток был – Думанов, Галустьян (начальником ИВЦ работал в последнее время), Мозговой (главный приборист завода 25) и кто-то еще… Толя Никифоров, по-моему. Он потом уехал в Мурманск на атомную станцию.